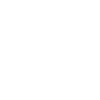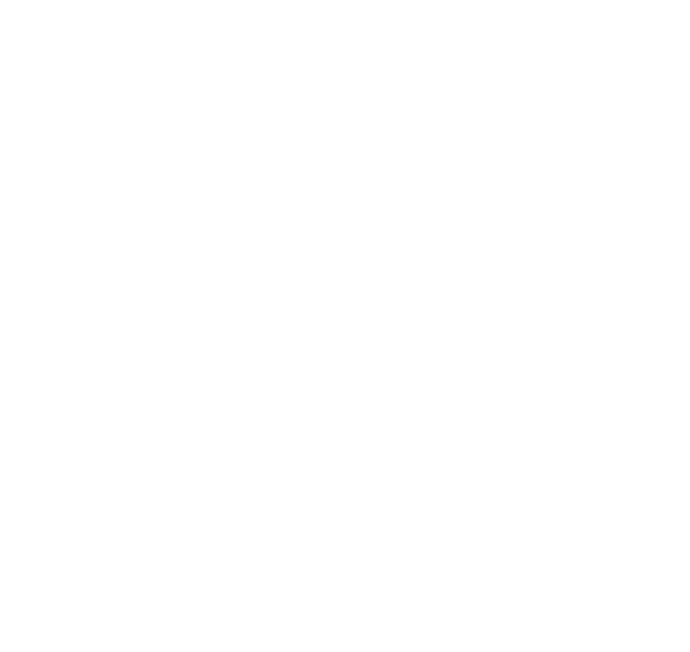LAGNA39|MAP ROUNDTABLES
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ СТРАХА
ИССЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ГЛУБИННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Нам пока не удалось разработать общую теорию, но мы убеждены в существовании некой связи между учениями о четырех физических элементах и о четырех темпераментах. Во всяком случае, души мечтателей, чья фантазия отмечена знаком огня, воздуха, воды или земли, оказываются весьма несхожими. Вода и огонь, в частности, остаются врагами даже в воображении, и тот, кто слышит лепет ручья, едва ли способен понимать того, кому внятны песни огня: они говорят на разных языках.
Развивая, в самом общем виде, эту Физику - или Химию - воображения, мы с легкостью придем к теории четырехвалентности поэтических темпераментов. Действительно, четырехвалентность фантазии выражена столь же отчетливо, как химическая четырехвалентность углерода, и не менее продуктивна. Фантазия владеет четырьмя областями, устремляет в пространство бесконечности четыре луча. Чтобы выведать тайну настоящего поэта - поэта искреннего, верного исконному языку души и глухого к фальшивым отголоскам эклектики восприятия, расположенной играть всеми чувствами, - достаточно узнать одно слово: "Скажи мне, кто твоя химера: гном, саламандра, ундина или сильфида?"
Кстати, замечал ли кто-нибудь, что все эти фантастические существа питаются тем же, из чего созданы: гном состоит из уплотненной земли и обитает в расселине скалы; хранитель минералов и золота, он насыщается самыми плотными веществами; пылающая саламандра пожирает сама себя в этом пламени; водянистая ундина бесшумно скользит по озерной глади, впитывая собственное отражение; сильфида, которую любое вещество перегружает, а капля алкоголя приводит в ужас, которая, вероятно, вознегодовала бы из-за того, что курильщик "загрязняет ее стихию" (Гофман), легко взлетает в голубые небеса, почитая для себя благом полное отсутствие аппетита.
Развивая, в самом общем виде, эту Физику - или Химию - воображения, мы с легкостью придем к теории четырехвалентности поэтических темпераментов. Действительно, четырехвалентность фантазии выражена столь же отчетливо, как химическая четырехвалентность углерода, и не менее продуктивна. Фантазия владеет четырьмя областями, устремляет в пространство бесконечности четыре луча. Чтобы выведать тайну настоящего поэта - поэта искреннего, верного исконному языку души и глухого к фальшивым отголоскам эклектики восприятия, расположенной играть всеми чувствами, - достаточно узнать одно слово: "Скажи мне, кто твоя химера: гном, саламандра, ундина или сильфида?"
Кстати, замечал ли кто-нибудь, что все эти фантастические существа питаются тем же, из чего созданы: гном состоит из уплотненной земли и обитает в расселине скалы; хранитель минералов и золота, он насыщается самыми плотными веществами; пылающая саламандра пожирает сама себя в этом пламени; водянистая ундина бесшумно скользит по озерной глади, впитывая собственное отражение; сильфида, которую любое вещество перегружает, а капля алкоголя приводит в ужас, которая, вероятно, вознегодовала бы из-за того, что курильщик "загрязняет ее стихию" (Гофман), легко взлетает в голубые небеса, почитая для себя благом полное отсутствие аппетита.
В этом аспекте наши знания о четырех основных жизненных позициях и четырех основных формах страха могут быть полезны в оказании помощи, как в партнерских отношениях, так и в межчеловеческих контактах. Различные исторические периоды, культуры, социальные структуры, коллективные условия жизни, соответствующие данному времени идеологии и ценности, этические, религиозные, политические и хозяйственные установки оцениваются в зависимости от преобладания каждого из четырех основных видов страха, той или иной личностной структуры. Мы можем рассматривать каждую эпоху в зависимости от доминирования в ней одного из четырех структурных типов личности, который имеет в данной системе наиболее благоприятные условия для своего развития, так как уже в детском возрасте определяются установки, в соответствии с которыми определенные характеры и личностные структуры определяются как плохие и отвергаются, не получая положительной коллективной оценки. Крестьянско-оседлая культура благоприятствовала развитию защитных процессов и ориентации на традиции, неизменный и передаваемый опыт, безопасность, собственность и ее незыблемость, т. е. на такие качества, которые мы описали у личностей с навязчивым развитием. Процесс образования городов и индустриализация, которые мы переживаем в настоящее время, лишают нас многих естественных условий, требуют большого объема бездуховной деятельности, угрожают такими массовыми процессами, как лишение корней, что приводит к шизоидизации в смысле описанной выше утраты связей, пренебрежения духовностью, поддержкой технократии, которая становится все более могущественной. Это очень важно для нас, так как подчеркивает позитивный аспект шизоидных личностей, а именно их стремление к индивидуализации не только как изолированной самореализации и эго центрического одиночества, но и как задачу сохранения своей целостности, т. е. служит противостоящей духу времени установке на осознание своей эмоциональной и человеческой целостности. Патриархат с типичными для него процессами абсолютизации силы и авторитета, с его привязанностью к традициям и организационным формам, выражающим господство лиц с навязчивой структурой личности, приближается к своему концу, так как лишен органической жизненной основы, заложенной в крестьянской культуре, использующей не только власть сильнейшего, но также подавление слабых и использование зависимых. Одновременно с разрушением основ патриархата консолидируется противоположный полюс, который в экстремальных формах требует антиавторитарного образования, сопровождается сексуальной революцией и освобождением от табу и в позитивном смысле сопровождается поиском новых форм проявления свободы. Это усиливает присутствующие в любом коллективе стремления к дополнению друг друга, выравниванию болезненной односторонности, сознательному регулированию собственных психических процессов, которые раньше ритмически сменялись прорывом привычного сдерживания с экстремальными формами поведения.
Основные формы страха взаимосвязаны с нашим самочувствием в этом мире и с нашей напряженной распределенностью между двумя большими антиномиями, которые мы переживаем в их неразрывной противоположности и повторяемости. Я хотел бы обе эти антиномии в равной степени прояснить, включая их в надперсональный порядок и закономерности, которых мы не осознаем, но которые все же существуют. Рождаясь в этом мире, мы повинуемся четырем могущественным импульсам:
Наша Земля вращается вокруг Солнца, являющегося также центральным светилом нашей собственной мировой системы, чье движение мы определяем как революцию или переворот. Одновременно Земля вращается вокруг своей оси, что называется ее собственным вращением. Таким образом, существуют два взаимоисключающих или взаимодополняющих импульса, которые поддерживают нашу мировую систему в движении, к которому принуждают два направления: силы тяжести и центробежной силы. Сила тяжести поддерживает целостность нашего мира, стремясь вовнутрь, к его центру, и удерживая его от распада. Центробежная сила направлена от центра наружу, она стремится к расширению и, будучи отпущена, направлена на отделение и непрерывное движение. Только взвешенное взаимодействие этих четырех импульсов гарантирует закономерный и подвижный порядок жизни, в которой мы пребываем и которую называем космосом. Преобладание или выпадение одного из видов движения нарушает или разрушает этот вселенский порядок и приводит к хаосу.
Представим себе, что Земля израсходует один из этих основных импульсов. Пусть, например, произойдет переворот, в результате которого Солнце будет вращаться только вокруг собственной оси, вследствие чего нарушится порядок, согласно которому Солнце является центром, вокруг которого движутся другие планеты. Мы не можем предписывать Солнцу его пути, так как оно живет по своим законам. Земля имеет собственное вращение и, кроме того, совершает вращение вокруг Солнца, оставаясь вместе со своим спутником-Луной на определенной планетарной ступени; при этом Земля и Солнце находятся во взаимной зависимости друг от друга. В обоих случаях планетарные законы и законы вращения Солнца взаимозависимы и, следовательно, их независимое существование разрушительно. Далее. Если Земля лишится силы тяжести и будет находиться только под влиянием центробежных сил, неизбежно разрушение привычных направлений и хаотическое движение, которое может привести к столкновению с другим космическим телом. А в случае, если силе тяжести не противостоят противоположные по направлению центробежные силы, это может привести к полному окостенению и неподвижности или к пассивной зависимости от других сил, противостоять которым не представляется возможным. Эти сопоставления, изложенные в аллегорической форме, поразительно соответствуют положению человека, как обитателя нашей Земли и крошечной частички Солнечной системы подчиняющегося закономерностям этой системы и, вместе с тем, находящегося под влиянием инстинктивных бессознательных сил и одновременно выполняющего в латентной форме их требования.
Мы испытываем потребность каждый основной импульс в человеческой сфере перевести на язык психологии, находя соответствие им в переживаниях, столкновение которых проявляется в упомянутых выше противоположностях, и при этом определяем основные формы страха, которые взаимодействуют на глубинных уровнях человеческого духа. Ротация, собственное вращение, соответствует психологическому смыслу требования индивидуальности, т. е. является условием индивидуального существования. Революция, движение вокруг Солнца, нашего центрального светила, соответствует требованиям подчинения великой общности; наши собственные закономерности и наши собственные желания ограничены в пользу сверхперсональных связей. Центростремительное направление, сила тяжести на психическом уровне соответствует нашему стремлению к постоянству и устойчивости; и, наконец, центробежное направление или центробежные силы соответствуют нашему стремлению вперед, к изменениям и переменам. В этих понятиях могут быть описаны и другие антиномии: они содержатся в противоречии повторяющихся требований устойчивости, с одной стороны, и изменчивости - с другой. В соответствии с этими космическими аналогиями мы обосновываем четыре основных требования, которые повторяются и взаимно дополняют друг друга во всех наших стремлениях. В сменяющихся формах проходит вся наша жизнь, и мы всегда хотим по-новому отвечать на ее требования.
Представим себе, что Земля израсходует один из этих основных импульсов. Пусть, например, произойдет переворот, в результате которого Солнце будет вращаться только вокруг собственной оси, вследствие чего нарушится порядок, согласно которому Солнце является центром, вокруг которого движутся другие планеты. Мы не можем предписывать Солнцу его пути, так как оно живет по своим законам. Земля имеет собственное вращение и, кроме того, совершает вращение вокруг Солнца, оставаясь вместе со своим спутником-Луной на определенной планетарной ступени; при этом Земля и Солнце находятся во взаимной зависимости друг от друга. В обоих случаях планетарные законы и законы вращения Солнца взаимозависимы и, следовательно, их независимое существование разрушительно. Далее. Если Земля лишится силы тяжести и будет находиться только под влиянием центробежных сил, неизбежно разрушение привычных направлений и хаотическое движение, которое может привести к столкновению с другим космическим телом. А в случае, если силе тяжести не противостоят противоположные по направлению центробежные силы, это может привести к полному окостенению и неподвижности или к пассивной зависимости от других сил, противостоять которым не представляется возможным. Эти сопоставления, изложенные в аллегорической форме, поразительно соответствуют положению человека, как обитателя нашей Земли и крошечной частички Солнечной системы подчиняющегося закономерностям этой системы и, вместе с тем, находящегося под влиянием инстинктивных бессознательных сил и одновременно выполняющего в латентной форме их требования.
Мы испытываем потребность каждый основной импульс в человеческой сфере перевести на язык психологии, находя соответствие им в переживаниях, столкновение которых проявляется в упомянутых выше противоположностях, и при этом определяем основные формы страха, которые взаимодействуют на глубинных уровнях человеческого духа. Ротация, собственное вращение, соответствует психологическому смыслу требования индивидуальности, т. е. является условием индивидуального существования. Революция, движение вокруг Солнца, нашего центрального светила, соответствует требованиям подчинения великой общности; наши собственные закономерности и наши собственные желания ограничены в пользу сверхперсональных связей. Центростремительное направление, сила тяжести на психическом уровне соответствует нашему стремлению к постоянству и устойчивости; и, наконец, центробежное направление или центробежные силы соответствуют нашему стремлению вперед, к изменениям и переменам. В этих понятиях могут быть описаны и другие антиномии: они содержатся в противоречии повторяющихся требований устойчивости, с одной стороны, и изменчивости - с другой. В соответствии с этими космическими аналогиями мы обосновываем четыре основных требования, которые повторяются и взаимно дополняют друг друга во всех наших стремлениях. В сменяющихся формах проходит вся наша жизнь, и мы всегда хотим по-новому отвечать на ее требования.
1
Первое требование, соответствующее в нашей аллегории ротации, означает, что каждый индивидуум для достижения самостоятельности и неповторимости своей личности должен отграничить себя от остальной человеческой массы, не обмениваясь с нею своими особенностями. К этому требованию присоединяется страх, который угрожает нам, когда мы отделяем себя от других, возникающий с момента рождения и связанный с тем, что мы являемся частью общности и боимся одиночества и изоляции. На всех уровнях, будь то расовые, семейные, национальные, половые, связанные с нашими надеждами или с нашей профессией, мы принадлежим к определенным группам, к которым мы испытываем чувство близости и родственной принадлежности, и вместе с тем, будучи индивидуумами и единичностью, стремимся к четкому различию от других людей. Это приводит к тому существенному факту, что одним из основных наших желаний является стремление не смешиваться с другими людьми и однозначно идентифицироваться с самим собой. Наше существование похоже на пирамиду, чье основание покоится на типичном и всеобщем, а вершина стремится освободиться от связи с всеобщим и увенчаться индивидуальным и единичным. С началом и развитием нашей единичности, т.е. с процессом индивидуализации, который К.Г. Юнг назвал процессом развития (Entwicklungsvorgang), мы выходим из системы отношений, описываемой формулой "быть таким же, как другие" ("Auch-wie-die-anderen-Seins"), и переживаем нашу единичность (единственность) и индивидуальность с чувством страха. Чем больше мы отделяемся от других, тем больше мы подвергаемся воздействию неуверенности, непонимания и отверженности. Не рискуя, с другой стороны, оторваться от коллектива и от типовой принадлежности, мы развиваем свою индивидуальность, решительно отстаивая свое человеческое достоинство.
2
Второе требование, соответствующее в нашей аллегории революции, состоит в том, что мир, жизнь и человеческое сообщество открыты для нашего участия и требуют для этого отказа от "Я", а в противном случае являются чуждыми, существующими независимо от нас и вне нас. Второе требование подразумевает, как это вытекает из всего смысла изложенного, самоотречение и самоотдачу. С этими понятиями связаны все страхи, заключающиеся в боязни утраты собственного "Я", зависимые от необходимости самоотдачи и нежелания лишиться своей единичности и принести себя в жертву другим, что является необходимым для приспособления к требованиям большинства. Это, прежде всего, приводит к зависимости от нашего окружения, чувству покинутости и бессилия, которые возникают при угрозе исключения этой зависимости и защищенности. Риск остаться в одиночестве без связей с миром, без чувства принадлежности к находящемуся вне нас сопровождает всю нашу жизнь от момента рождения и вызывает у нас потребность к познанию мира. Мы вынуждены сталкиваться с этой первой антиномией несправедливости, которую возлагает на нас жизнь: мы должны жить в условиях самопроверки и самоиспытания, а также самоотдачи и самозабвения, что одновременно может вызвать страх перед задачей осуществления собственного "Я" и страх перед разрушением собственного "Я" (страх ликвидации становления "Я").
3
Третье требование, соответствующее в нашей аллегории центростремительному направлению или силе тяжести и означающее наше стремление к неизменности и продолжению. Мы должны в нашей жизни так хозяйствовать и располагаться, так планировать свое будущее, так стремиться к нему, как будто наша жизнь безгранична или как будто мир стабилен, будущее предвидимо, существование непреходяще, и при этом одновременно знать, что мы наполовину состоим из смерти (media in vita morte sumus) и наша жизнь в течение мгновения приходит к своему концу. Это требование продолжения и устойчивости дает нам возможность иметь неопределенное будущее, вообще будущее и в связи с этим обеспечивать для себя хоть какую-то устойчивость и защиту. Оно сопровождается страхами, которые связаны со знанием о преходящем характере нашей зависимости и иррациональности планирования нашего существования, страхом перед риском всего нового, перед неопределенностью наших планов, перед вечной изменчивостью нашей жизни, которая никогда не останавливается и постоянно изменяет нас самих. Этот страх выражен в известном изречении о том, что нельзя дважды вступить в одну и ту же реку, так как река постоянно меняется. С другой стороны, отказываясь от принципа продолжительности и устойчивости существования, мы лишаемся способности что-либо делать и осуществлять, любая деятельность связана с нашим представлением об устойчивости и продолжительности. В противном случае мы не сможем добиваться достижения наших целей. Мы живем, надеясь, что располагаем неограниченным временем, и эта иллюзорная стабильность, неизменность, иллюзорная вечность являются важнейшим импульсом для нашей деятельности.
4
И, наконец, четвертое требование в соответствующей аллегории центробежного направления или центробежной силы. Оно состоит в том, что мы всегда стремимся к расширению, изменчивости, развитию и преодолению, отказываясь от уже изведанного, преодолевая традиции и обыденность, расставаясь с достигнутым, для того чтобы попытаться пережить неизведанное. С этим требованием, которое дает нам возможность жизнерадостно развиваться, безостановочно и настойчиво открывать новое и проникать в тайну неизведанного, тесно связан страх перед необходимостью преодоления порядка, необходимости, правил и законов, инертности привычек, которые удерживают, сковывают и ограничивают наши возможности вопреки нашему движению к свободе. Этот страх, наконец, противоположен ранее описанным, при которых смерть связана с преходящим характером жизни, и связан со смертью от окоченения и застывания. Находясь под влиянием импульсов к изменениям и риску, забывая и преодолевая временные закономерности вселенной, мы остаемся привязанными к нашим привычкам, удерживаем и повторяем привычное существование. Обрисовывая противоречия нашей жизни в виде парных антиномий, мы должны отметить, что в равной степени стремимся к стабильности и к изменениям, в связи с чем вынуждены в равной степени преодолевать как страх перед неизбежной изменчивостью, так и перед неизбежной необходимостью.
РОТАЦИЯ
РЕВОЛЮЦИЯ
ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНАЯ
СИЛА ТЯЖЕСТИ
СИЛА ТЯЖЕСТИ
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ
СИЛА
СИЛА
Итак, познакомимся с четырьмя основными формами страха:
1. Страх перед самоотвержением, переживаемый как утрата "Я" и зависимость.
2. Страх перед самостановлением (стагнацией "Я"), переживаемый как беззащитность и изоляция.
3. Страх перед изменением, переживаемый как изменчивость и неуверенность.
4. Страх перед необходимостью, переживаемый как окончательность и несвобода.
1. Страх перед самоотвержением, переживаемый как утрата "Я" и зависимость.
2. Страх перед самостановлением (стагнацией "Я"), переживаемый как беззащитность и изоляция.
3. Страх перед изменением, переживаемый как изменчивость и неуверенность.
4. Страх перед необходимостью, переживаемый как окончательность и несвобода.
Все возможные варианты страха относятся, в конечном счете, к описанным вариантам основных форм и связаны с четырьмя основными импульсами, которые в любом случае встречаются попарно, дополняя и противореча друг другу: как стремление к самосохранению и самообособленности с противоположным стремлением к самоотдаче и принадлежности к общему и, с другой стороны, как стремление к постоянству и безопасности с противоположным стремлением к изменениям и риску. Каждому стремлению свойственен страх перед противоположным стремлением. И, возвращаясь снова к нашим космическим аллегориям, жизненный порядок возможен только тогда, когда наступает равновесие между этими противоположными импульсами. Такое равновесие не означает, как это кажется, нечто статичное, но полно драматических внутренних противоречий, состоящих из внутренних достижений, сменяющихся последующими падениями.
Преобладание одной из четырех основных форм страха или, с другой точки зрения, прекращение действия одного из четырех основных типов импульсов приводят нас к четырем типам личностной структуры или к четырем способам существования в мире (In-der-Welt-Seins), с которыми мы ознакомимся в дифференцированном виде и к которым все мы относимся с той или иной степенью акцентуации. Эту личностную структуру мы понимаем также как одностороннюю акцентуацию в связи с одним из четырех основных видов страха. Такие проявления и односторонняя направленность, которые мы описываем как личностную структуру, по всей вероятности, имеют своим источником раннее детское развитие. Соответственно, мы рассматриваем как один из признаков психического здоровья то, какой из четырех основных импульсов преобладает в наших жизненных переживаниях, что одновременно означает, какая из четырех основных форм страха свойственна данной личности. Четыре личностные структуры, прежде всего, отражают психическую норму с определенной акцентуацией. Между тем, акцентуация означает очевидную одностороннюю направленность, достигающую границ, за которыми мы подразумеваем пограничные или экстремальные варианты четырех нормальных личностных структур. В связи с этим мы сталкиваемся с невротическими вариантами личностных структур, которые в психотерапии и глубинной психологии описываются как четыре большие невротические формы: шизоидия, депрессия, невроз навязчивостей и истерия. Эти невротические личности являются отражением заостренных или экстремальных форм общих типов человеческого существования, с которыми мы все знакомы.
«Четыре стихии (итал. l Quattro elementi) — живописный цикл из четырёх картин («Земля», «Вода», «Огонь» и «Воздух»), созданный Джузеппе Арчимбольдо (итал. Giuseppe Arcimboldo; 1527—1593) в 1566 году.

Рудольф II, наследник Габсбургов, император Священной Римской империи, король Венгрии, Германии и Рима - один из величайших героев истории, но до сих пор его фигур а остаётся практически неизвестной. Стремясь постичь глубочайшие тайны природы и загадки бытия, Рудольф приглашал ко двору нескончаемый поток гениев: датского астронома Тихо Браге, немецкого математика Иоганна Кеплера, английского мага Джона Ди, Фрэнсиса Бэкона, художника-маньериста Джузеппе Арчимбольдо и многих других. Прага стала художественным и научным центром известного в то время мира - островком интеллектуальной терпимости, окружённым католицизмом, протестантизмом и исламом. В своей книге Питер Маршалл сочетает чудеса Праги XVI века с яркими персонажами двора Рудольфа и предлагает новый захватывающий взгляд на поворотный момент перехода от Средних веков к современности, когда закладывалась основа для научной революции и Просвещения.
Истерические личности:
Очарование нового, неизведанного, манящего давно известно; радость риска в такой же степени присуща нашему существованию, как жажда вечности и потребность в. безопасности. Авантюризм живет в нас, далекие страны привлекают; нам в равной степени свойственны тоска по дому и тяга к путешествиям, страстное желание интимных впечатлений и переживаний, которые ломают рамки привычных представлений, обогащает нас, новые стороны бытия привлекают и манят. Мы ищем встреч с новыми людьми, мы торопимся использовать и исчерпать все возможности нашей жизни, расширить, обогатить и осмыслить новые встречи.
В связи со сказанным переходим к описанию четвертой и последней основной формы страха - страха перед окончательностью, перед необходимостью и ограниченностью нашего стремления к свободе. Если личность с навязчивым развитием боится изменений, свободы и риска, то, приступая к описанию личностей с истерической структурой, мы отмечаем у них нечто совершенно противоположное. Они явно стремятся к переменам и свободе, жаждут всего нового и рискованного, перед ними открыты шансы и возможности будущего. Они боятся всяких ограничений, традиций, закономерностей и порядка, которые так значимы для лиц с навязчивым развитием. Вспомним поговорки и пословицы, отражающие сущность этих людей: они живут по принципу "einmal ist keinmal" - "один раз не в счет", что означает отказ от привязанностей и обязанностей, от каких-либо претензий на неизменность действительности, на вечность. Прошлое уже прошло и больше их не интересует. Оно имеет для них относительный интерес и несравнимо с красочным и живым настоящим; главным и важным для них является "сейчас", мгновение. Латинская поговорка "сагре diem" или ее немецкий эквивалент "nutze die Gelegenheit" - "пользуйся случаем", быть может, больше всего для них подходит.
Прошлое прошло и не интересует их более; будущее есть поле для возможного, однако они, по существу, ничего не планируют, так как это было бы связано с традициями и установками. Для них важно лишь то, что для них открыто и им является; они всегда готовы освободиться от данности, от сложившихся обстоятельств.
Рассмотрим снова, в рамках приведенных во введении аллегорий, ситуацию, при которой центростремительные силы взаимосвязи и концентрации ослабляются и высвобождаются и когда преобладают противоположные, центробежные силы, являющиеся источником устремленности к новому центру внимания. Это означает, что они живут от мгновения к мгновению, без четких планов и целей, в ожидании нового, в жажде новых раздражителей, впечатлений и авантюр, находясь во власти соблазна господствующих в данный момент впечатлений и желаний, исходящих как от внешних, так и от внутренних источников. Прежде всего, они нуждаются в чувстве свободы, в связи с чем испытывают страх перед порядком, установленными законом положениями, которые они связывают с невозможностью уклониться от обязанностей и установок Действующие повсеместно и связанные с соблюдением порядка положения они воспринимают, как правило, в аспекте ограничения свободы и по возможности уклоняются от их выполнения. Их стремление к свободе это, по преимуществу, стремление к свободе от чего-то, а не для чего-то.
Что же происходит, если действующие правила игры в межчеловеческих отношениях и естественный и необходимый для жизни порядок не воспринимаются? В этом случае люди живут в мире, где законы и положения гибки, как каучук, где все уступает желаемому и любимому в данный момент, где порядок не воспринимается всерьез, так как постоянна только изменчивость. В каждой жизненной ситуации они ищут лазейку, для того чтобы в своем поведении уклониться от принятого порядка и последовательности Законы каузальности, т. е взаимосвязь между причиной и следствием, столь необходимые при столкновении с физической природой, они не готовы применять и использовать; для них действительно лишь то, что применимо здесь и сейчас. Естественно, в большинстве своем они боятся и, по возможности, избегают жестко установленных границ и ограничений - даже биологических данностей, при которых необходимо быть либо мужчиной, либо женщиной, возрастных определений, упоминаний о неизбежности смерти. Они стремятся играть все роли, которые предусмотрены в человеческом коллективе, и избегают всяческих предписаний и законоположений. Резюмируя, можно сказать, что их страшит в жизни и окружающей среде все то, что свидетельствует об ограниченности и неизбежности, все то, что мы обозначаем и поддерживаем как реальность. Однако мы приспосабливаемся к миру фактов и принуждены воспринимать, понимать и усваивать нашу зависимость от законов жизни. Эту реальность, которая дает нам право не обращать внимания на случайные, мелочные проблемы, личности с истерическим развитием не признают и пытаются разрушить. Тем самым они обретают для себя призрачную свободу, которая со временем становится все более опасной, так как они предпочитают жить в иллюзорном мире, где реальность не ограничивает их фантазию, возможности и желания. Они все более и более погружаются в псевдореальность, в "ложную действительность". Однако чем больше мы отдаляемся от реальности, чем больше возрастает степень нашей кажущейся свободы, тем меньше мы ориентируемся в "действительной действительности" и тем меньше учитываем ее в своем поведении. Это приводит к тому, что попытки связаться с реальностью становятся все более неудачными, приводят к разочарованиям и возвращают этих людей назад в мир желаний. При этом пропасть между желаемым и действительным растет, и это является настоящим порочным кругом для лиц с истерической личностной структурой.
Это приводит нас к закономерностям, которыми мы не можем пренебрегать безнаказанно. Испытывая чувство, что этот закон причинности ограничивает их возможности и принуждает к выстраиванию последовательности своих действий и самоотказу, личности с истерическим развитием уклоняются от его выполнения, прибегая к "страусиной политике". Они действуют так, как будто причинности не существует. Одержимые доминирующими в настоящее время желаниями, не принимая во внимание последствия этих желаний и не пытаясь проверить их реалистичность, они живут по принципу "после нас хоть потоп". Они наивно полагают, что и принципы причинности, и их последствия не имеют влияния на текущие события или, по крайней мере, не имеют прямого отношения к данной ситуации. Будучи зависимыми от своих желаний и от того, что производит на них сиюминутное впечатление, они пренебрегают возможными последствиями и находятся под суггестивным влиянием своих желаний, думая о причинах и следствиях только потом.
В связи со сказанным переходим к описанию четвертой и последней основной формы страха - страха перед окончательностью, перед необходимостью и ограниченностью нашего стремления к свободе. Если личность с навязчивым развитием боится изменений, свободы и риска, то, приступая к описанию личностей с истерической структурой, мы отмечаем у них нечто совершенно противоположное. Они явно стремятся к переменам и свободе, жаждут всего нового и рискованного, перед ними открыты шансы и возможности будущего. Они боятся всяких ограничений, традиций, закономерностей и порядка, которые так значимы для лиц с навязчивым развитием. Вспомним поговорки и пословицы, отражающие сущность этих людей: они живут по принципу "einmal ist keinmal" - "один раз не в счет", что означает отказ от привязанностей и обязанностей, от каких-либо претензий на неизменность действительности, на вечность. Прошлое уже прошло и больше их не интересует. Оно имеет для них относительный интерес и несравнимо с красочным и живым настоящим; главным и важным для них является "сейчас", мгновение. Латинская поговорка "сагре diem" или ее немецкий эквивалент "nutze die Gelegenheit" - "пользуйся случаем", быть может, больше всего для них подходит.
Прошлое прошло и не интересует их более; будущее есть поле для возможного, однако они, по существу, ничего не планируют, так как это было бы связано с традициями и установками. Для них важно лишь то, что для них открыто и им является; они всегда готовы освободиться от данности, от сложившихся обстоятельств.
Рассмотрим снова, в рамках приведенных во введении аллегорий, ситуацию, при которой центростремительные силы взаимосвязи и концентрации ослабляются и высвобождаются и когда преобладают противоположные, центробежные силы, являющиеся источником устремленности к новому центру внимания. Это означает, что они живут от мгновения к мгновению, без четких планов и целей, в ожидании нового, в жажде новых раздражителей, впечатлений и авантюр, находясь во власти соблазна господствующих в данный момент впечатлений и желаний, исходящих как от внешних, так и от внутренних источников. Прежде всего, они нуждаются в чувстве свободы, в связи с чем испытывают страх перед порядком, установленными законом положениями, которые они связывают с невозможностью уклониться от обязанностей и установок Действующие повсеместно и связанные с соблюдением порядка положения они воспринимают, как правило, в аспекте ограничения свободы и по возможности уклоняются от их выполнения. Их стремление к свободе это, по преимуществу, стремление к свободе от чего-то, а не для чего-то.
Что же происходит, если действующие правила игры в межчеловеческих отношениях и естественный и необходимый для жизни порядок не воспринимаются? В этом случае люди живут в мире, где законы и положения гибки, как каучук, где все уступает желаемому и любимому в данный момент, где порядок не воспринимается всерьез, так как постоянна только изменчивость. В каждой жизненной ситуации они ищут лазейку, для того чтобы в своем поведении уклониться от принятого порядка и последовательности Законы каузальности, т. е взаимосвязь между причиной и следствием, столь необходимые при столкновении с физической природой, они не готовы применять и использовать; для них действительно лишь то, что применимо здесь и сейчас. Естественно, в большинстве своем они боятся и, по возможности, избегают жестко установленных границ и ограничений - даже биологических данностей, при которых необходимо быть либо мужчиной, либо женщиной, возрастных определений, упоминаний о неизбежности смерти. Они стремятся играть все роли, которые предусмотрены в человеческом коллективе, и избегают всяческих предписаний и законоположений. Резюмируя, можно сказать, что их страшит в жизни и окружающей среде все то, что свидетельствует об ограниченности и неизбежности, все то, что мы обозначаем и поддерживаем как реальность. Однако мы приспосабливаемся к миру фактов и принуждены воспринимать, понимать и усваивать нашу зависимость от законов жизни. Эту реальность, которая дает нам право не обращать внимания на случайные, мелочные проблемы, личности с истерическим развитием не признают и пытаются разрушить. Тем самым они обретают для себя призрачную свободу, которая со временем становится все более опасной, так как они предпочитают жить в иллюзорном мире, где реальность не ограничивает их фантазию, возможности и желания. Они все более и более погружаются в псевдореальность, в "ложную действительность". Однако чем больше мы отдаляемся от реальности, чем больше возрастает степень нашей кажущейся свободы, тем меньше мы ориентируемся в "действительной действительности" и тем меньше учитываем ее в своем поведении. Это приводит к тому, что попытки связаться с реальностью становятся все более неудачными, приводят к разочарованиям и возвращают этих людей назад в мир желаний. При этом пропасть между желаемым и действительным растет, и это является настоящим порочным кругом для лиц с истерической личностной структурой.
Это приводит нас к закономерностям, которыми мы не можем пренебрегать безнаказанно. Испытывая чувство, что этот закон причинности ограничивает их возможности и принуждает к выстраиванию последовательности своих действий и самоотказу, личности с истерическим развитием уклоняются от его выполнения, прибегая к "страусиной политике". Они действуют так, как будто причинности не существует. Одержимые доминирующими в настоящее время желаниями, не принимая во внимание последствия этих желаний и не пытаясь проверить их реалистичность, они живут по принципу "после нас хоть потоп". Они наивно полагают, что и принципы причинности, и их последствия не имеют влияния на текущие события или, по крайней мере, не имеют прямого отношения к данной ситуации. Будучи зависимыми от своих желаний и от того, что производит на них сиюминутное впечатление, они пренебрегают возможными последствиями и находятся под суггестивным влиянием своих желаний, думая о причинах и следствиях только потом.
Одержимость желаниями с влечением к их немедленному удовлетворению, при котором бросающееся в глаза заменяет обдумывание, ирреальные установки заставляют пренебрегать логичностью и последовательностью своих действий, происходящее оценивается произвольно, с надеждой на чудо, на счастливый случай, возможные последствия своих действий вытесняются и отвергаются, так что приходится все время латать дыры, нанесенные при столкновении с действительностью, с помощью лживых "историй", заменяющих истинные события; предаются забвению неприятные случаи и происшествия, связанные, прежде всего, с чувством собственной вины или неправоты; и, в конце концов, происходит отрицание неудобной или неприятной необходимости нести ответ за свое поведение или уклонение от такой необходимости.
С такой же легкостью обращаются истерики и с другими реальностями, а также со временем. Пунктуальность, планирование своего времени и его распределение для них тягостны и непереносимы; они нередко расценивают эти качества у других людей как мелочность. Или возьмем такую биологическую реальность, как наша зависимость от половой принадлежности, от процесса созревания и от возраста. Лица с истерическим развитием не хотят отказываться от своих установок, стремятся как можно дольше считаться детьми, которые не имеют никаких обязанностей, стремятся удержать молодость и не нести ответственности за те изменения, которые они вносят в окружающий мир или во взаимоотношения с другими. Ответственность для них - неприятное и неудобное понятие, требующее соблюдения определенных условий, которые напоминают им о законе причинности и неприятных последствиях и выводах с ним связанных. И возраст! Они находят различные причины, для того чтобы уклониться от ответов на вопросы о возрасте, ссылаясь на выражение "мне столько лет, на сколько я себя чувствую" и находя различные уловки, чтобы не отвечать на этот вопрос по существу. Им кажется, что, уклоняясь от того, чтобы сказать правду о своем возрасте, они достигают иллюзии вечной молодости. Начиная с одежды, в которой они придерживаются юношеского стиля, и кончая многочисленными косметическими средствами и даже косметическими операциями, они прибегают к любым средствам, чтобы поддержать эту иллюзию молодости. Они пренебрегают заботами и волнениями, объясняя это тем, что они для них "непереносимы", а если уклониться нельзя, то ссылаются на болезнь и тем самым избавляются от хлопот и беспокойства. Подобным же образом истерические личности относятся к этическим нормам и морали. Кто знает, что скрывается за их любезностью и предупредительностью? "Один раз не в счет" ("einmal ist keinmal"), a случай не влечет за собой никаких выводов и последствий. Кто знает, что хорошо, а что плохо? Ведь все это, в конечном счете, относительно и зависит от той точки зрения, которой мы придерживаемся в данный момент. Они воспринимают мир пластично и гибко и возникающим на их жизненном пути ошибкам дают произвольное истолкование. Кто знает, что в данный момент действует, а что уже прошло? Счастливым об разом их мысли свободны, они убеждены в достаточности настоящего и не думают о том, что может произойти в будущем - кто может доказать противоположное? С их точки зрения логика - это обременительная, докучливая реальность. Они все более и более отдаляются от реальности и от решения логически вытекающих из нее проблем - их собственная логика отличается от логики других людей тем, что в ней минимум логики. Когда посторонние находят в их мышлении непонятные пропуски и разрывы, за которыми они не поспевают, а их поведение определяют как немотивированное, сами истерики хорошо себя понимают и находят свои мысли и поступки вполне логичными. Какие фантастические возможности представляет раз говор с истерической личностью, если собеседник хоть раз догадается о том, что руководит истериком и как мало знают посторонние о его мотивах и желаниях!
Так развивается так называемая псевдологика, приводящая к сознательной или подсознательной лживости, в которой едва ли не каждый может уличить истерическую личность. Собственно говоря, страх этих людей перед необходимостью и окончательностью не осознан. Он заменяется часто встречающимся у них страхом открытых улиц и площадей (агорафобия), а также страхом замкнутых пространств, охватывающим их в лифтах, купе пассажирских поездов и т. д. (клаустрофобия). Так же часто встречается страх перед животными. Эти страхи являются переносом основного страха на второстепенное и безобидное, прежде всего, из соображений избегания и предотвращения. При страхе замкнутого пространства в лифте или страхе высоты на мосту лифт и мост служат средством бегства от страха, уклонением от него. По существу, страх перед ограничением свободы или перед ситуацией искушения при этом не усиливается, а напротив, может быть снят, так как рискованные желания, овладевающие истериками или создающие внутренний конфликт, переносятся на внешние объекты страха, которые способствуют "разрешению" конфликта, и данное положение уже не приводит к отказу от искушения. Если я больше не могу - по крайней мере, в одиночку - ходить по улице, то я имею право не противостоять соблазнам и искушениям. Конечно, такого рода уловки не являются действенной и надежной защитой от страха - одни страхи сменяют другие и противостоят друг другу. Когда под влиянием страха лица с истерическим развитием ощущают себя припертыми к стенке и не видят выхода из ситуации, развивается паническая реакция или паническая атака - "Fluent nach vom", - при которой невозможен какой-либо разумный и обоснованный прорыв.
Мы должны теперь показать, что истерическим личностям свойственно постепенное суммирование неправильного, ошибочного поведения, которое приводит их к безысходной ситуации. Что можно сделать, чтобы удачно избежать обязательности и окончательности? Гарантирующим безопасность способом таким личностям представляется жизнь, при которой принимается во внимание лишь мгновение без всяких предыстории и последствий. Если я вчера совершил ошибку, наделал глупостей, то мне приходит в голову решение жить только сегодняшним днем, хвататься за настоящее, потому что завтра может и не наступить. Преодолевая временные и каузальные взаимосвязи, истерические личности достигают необычайной пластичности, они живут без исторических корней, без прошедшего. Они отвергают прошлое как несущественный балласт, что вносит в их жизнь пунктирность, ненадежность, фрагментарность и переливчатость. Они могут, как хамелеоны, приспособиться к каждой новой ситуации и, вместе с тем, проявляют так мало постоянства, такой дефицит "непрерывности "Я"", что мы можем это считать для них характерным. Они кажутся непредсказуемы ми и непостижимыми. Истерики могут играть разные роли в зависимости от данного момента и своих потребностей, ориентироваться на партнера и тут же публично отказываться от своей привязанности, если эта роль больше их не устраивает. Так развивается не последовательность и отсутствие четких контуров по ведения, которые характерны для истерических личностей.
Другой возможностью, которую приобретает страх, припирающий истериков к стенке, является так называемый "поворот копья в другую сторону" ("Spiep umzudrehen"), при котором вина за происшедшее перекладывается на других. При этом упреки к самому себе заменяются претензиями к постороннему, что рефлекторно приводит к свойственной детям реакции, когда они на реплику "ты дурак" автоматически отвечают "сам дурак". Нередко случается так, что если их критикуют или упрекают в чем-то, они тотчас же, без всяких дискуссий и возражений, принимают чужую точку зрения. Проецирование на других собственного чувства вины в форме упреков может достичь такой степени, что они начинают верить в виновность другого человека по принципу "держи вора". Это, естественно, приводит к неискренности, которая, в конечном счете, переходит в лживость при различных жизненных Все это вызывает подспудное чувство неуверенности и неопределенный страх, что в некоторых случаях выражается в поисках роли, защищающей их от последствий своих действий и реальности. Часто это "бегство в болезнь", которая, по крайней мере, дает им возможность выиграть время и избежать ответственности.
С такой же легкостью обращаются истерики и с другими реальностями, а также со временем. Пунктуальность, планирование своего времени и его распределение для них тягостны и непереносимы; они нередко расценивают эти качества у других людей как мелочность. Или возьмем такую биологическую реальность, как наша зависимость от половой принадлежности, от процесса созревания и от возраста. Лица с истерическим развитием не хотят отказываться от своих установок, стремятся как можно дольше считаться детьми, которые не имеют никаких обязанностей, стремятся удержать молодость и не нести ответственности за те изменения, которые они вносят в окружающий мир или во взаимоотношения с другими. Ответственность для них - неприятное и неудобное понятие, требующее соблюдения определенных условий, которые напоминают им о законе причинности и неприятных последствиях и выводах с ним связанных. И возраст! Они находят различные причины, для того чтобы уклониться от ответов на вопросы о возрасте, ссылаясь на выражение "мне столько лет, на сколько я себя чувствую" и находя различные уловки, чтобы не отвечать на этот вопрос по существу. Им кажется, что, уклоняясь от того, чтобы сказать правду о своем возрасте, они достигают иллюзии вечной молодости. Начиная с одежды, в которой они придерживаются юношеского стиля, и кончая многочисленными косметическими средствами и даже косметическими операциями, они прибегают к любым средствам, чтобы поддержать эту иллюзию молодости. Они пренебрегают заботами и волнениями, объясняя это тем, что они для них "непереносимы", а если уклониться нельзя, то ссылаются на болезнь и тем самым избавляются от хлопот и беспокойства. Подобным же образом истерические личности относятся к этическим нормам и морали. Кто знает, что скрывается за их любезностью и предупредительностью? "Один раз не в счет" ("einmal ist keinmal"), a случай не влечет за собой никаких выводов и последствий. Кто знает, что хорошо, а что плохо? Ведь все это, в конечном счете, относительно и зависит от той точки зрения, которой мы придерживаемся в данный момент. Они воспринимают мир пластично и гибко и возникающим на их жизненном пути ошибкам дают произвольное истолкование. Кто знает, что в данный момент действует, а что уже прошло? Счастливым об разом их мысли свободны, они убеждены в достаточности настоящего и не думают о том, что может произойти в будущем - кто может доказать противоположное? С их точки зрения логика - это обременительная, докучливая реальность. Они все более и более отдаляются от реальности и от решения логически вытекающих из нее проблем - их собственная логика отличается от логики других людей тем, что в ней минимум логики. Когда посторонние находят в их мышлении непонятные пропуски и разрывы, за которыми они не поспевают, а их поведение определяют как немотивированное, сами истерики хорошо себя понимают и находят свои мысли и поступки вполне логичными. Какие фантастические возможности представляет раз говор с истерической личностью, если собеседник хоть раз догадается о том, что руководит истериком и как мало знают посторонние о его мотивах и желаниях!
Так развивается так называемая псевдологика, приводящая к сознательной или подсознательной лживости, в которой едва ли не каждый может уличить истерическую личность. Собственно говоря, страх этих людей перед необходимостью и окончательностью не осознан. Он заменяется часто встречающимся у них страхом открытых улиц и площадей (агорафобия), а также страхом замкнутых пространств, охватывающим их в лифтах, купе пассажирских поездов и т. д. (клаустрофобия). Так же часто встречается страх перед животными. Эти страхи являются переносом основного страха на второстепенное и безобидное, прежде всего, из соображений избегания и предотвращения. При страхе замкнутого пространства в лифте или страхе высоты на мосту лифт и мост служат средством бегства от страха, уклонением от него. По существу, страх перед ограничением свободы или перед ситуацией искушения при этом не усиливается, а напротив, может быть снят, так как рискованные желания, овладевающие истериками или создающие внутренний конфликт, переносятся на внешние объекты страха, которые способствуют "разрешению" конфликта, и данное положение уже не приводит к отказу от искушения. Если я больше не могу - по крайней мере, в одиночку - ходить по улице, то я имею право не противостоять соблазнам и искушениям. Конечно, такого рода уловки не являются действенной и надежной защитой от страха - одни страхи сменяют другие и противостоят друг другу. Когда под влиянием страха лица с истерическим развитием ощущают себя припертыми к стенке и не видят выхода из ситуации, развивается паническая реакция или паническая атака - "Fluent nach vom", - при которой невозможен какой-либо разумный и обоснованный прорыв.
Мы должны теперь показать, что истерическим личностям свойственно постепенное суммирование неправильного, ошибочного поведения, которое приводит их к безысходной ситуации. Что можно сделать, чтобы удачно избежать обязательности и окончательности? Гарантирующим безопасность способом таким личностям представляется жизнь, при которой принимается во внимание лишь мгновение без всяких предыстории и последствий. Если я вчера совершил ошибку, наделал глупостей, то мне приходит в голову решение жить только сегодняшним днем, хвататься за настоящее, потому что завтра может и не наступить. Преодолевая временные и каузальные взаимосвязи, истерические личности достигают необычайной пластичности, они живут без исторических корней, без прошедшего. Они отвергают прошлое как несущественный балласт, что вносит в их жизнь пунктирность, ненадежность, фрагментарность и переливчатость. Они могут, как хамелеоны, приспособиться к каждой новой ситуации и, вместе с тем, проявляют так мало постоянства, такой дефицит "непрерывности "Я"", что мы можем это считать для них характерным. Они кажутся непредсказуемы ми и непостижимыми. Истерики могут играть разные роли в зависимости от данного момента и своих потребностей, ориентироваться на партнера и тут же публично отказываться от своей привязанности, если эта роль больше их не устраивает. Так развивается не последовательность и отсутствие четких контуров по ведения, которые характерны для истерических личностей.
Другой возможностью, которую приобретает страх, припирающий истериков к стенке, является так называемый "поворот копья в другую сторону" ("Spiep umzudrehen"), при котором вина за происшедшее перекладывается на других. При этом упреки к самому себе заменяются претензиями к постороннему, что рефлекторно приводит к свойственной детям реакции, когда они на реплику "ты дурак" автоматически отвечают "сам дурак". Нередко случается так, что если их критикуют или упрекают в чем-то, они тотчас же, без всяких дискуссий и возражений, принимают чужую точку зрения. Проецирование на других собственного чувства вины в форме упреков может достичь такой степени, что они начинают верить в виновность другого человека по принципу "держи вора". Это, естественно, приводит к неискренности, которая, в конечном счете, переходит в лживость при различных жизненных Все это вызывает подспудное чувство неуверенности и неопределенный страх, что в некоторых случаях выражается в поисках роли, защищающей их от последствий своих действий и реальности. Часто это "бегство в болезнь", которая, по крайней мере, дает им возможность выиграть время и избежать ответственности.
Истерическая личность и любовь
Истерические личности любят любовь. Они любят все, что может способствовать повышению их самооценки - упоение, экстаз, страсть; любовь воспринимается ими как вершина их переживаний. Если навязчивые личности рассматривают любовное томление как насилие, то истерические личности относятся к дионисийской стороне аполлонийской линии отношения к любви. Их влечет к безграничным любовным переживаниям, однако не в форме самоотдачи, как бывает у депрессивных личностей, а в плане распространения и расширения своего "Я", к апофеозу своего "Я". Если депрессивные личности стремятся перейти границы собственного "Я" для симбиотического слияния с другим, с партнером, и тем самым пытаются трансцендентировать себя вовне, то истерические личности пытаются усилить интенсивность своих переживаний, т. е. направляют любовные чувства вовнутрь, для удовлетворения своего "Я". В связи с этим любовные взаимоотношения истерических личностей характеризуются интенсивностью, страстностью и требовательностью. Они ищут в любви, прежде всего, подтверждения своего "Я", им нравится упоение и опьянение, которые им дает партнер, они ожидают в связи с любовными отношениями кульминации своей жизни. Для них эротическая атмосфера - это нечто само собой разумеющееся, они прибегают к различным способам очаровывания и соблазнения, часто являясь истинными мастерами эротики.
Это подразумевает владение различными инструментами эротики - от флирта и кокетства до овладения искусством обольщения во всех его нюансах. Истерики, как правило, считают, что партнер должен поддерживать в них чувство собственной любовной привлекательности. Они обладают большой силой внушения, от которой трудно уклониться. В сознании своих достоинств и своей привлекательности они принуждают партнера поверить в это. При установлении любовных отношений для них важна, прежде всего, сила желания. Эти люди берут крепость штурмом, не затягивая осаду, по принципу "veni-vidi-vici" - "пришел, увидел, победил". Они легко вступают в контакт с противоположным полом; связь для них не бывает скучной и тягостной. Они любят любовь больше, чем партнера, им нравится знакомство с различными способами и образцами любви, так как они исполнены любопытства и любовного голода. Им нравится блеск и роскошь, праздники и торжества, они готовы праздновать по любому поводу, находясь при этом в центре внимания с помощью своего обаяния, темперамента, непосредственности и экстравагантной одежды. Они считают смертельным грехом, если партнер не нашел в них любовные качества или не оценил их - такое они переносят с трудом и вряд ли могут простить. Для них предпочтительнее ситуация "лучше б уж украли коня", чем спокойная, без сантиментов жизнь. Скука для них смертельно непереносима, они всегда скучают, оставаясь наедине сами с собой. Они яркие, живые, изворотливые партнеры, спонтанные и непредсказуемые в своих чувственных проявлениях, способные к интенсивной кратковременной любви. Они стремятся к наслаждениям, склонны к фантазированию и... часто проигрывают. К верности, по крайней мере, собственной, они относятся пренебрежительно. Тайная, запретная любовь для них особенно привлекательна, так как дает простор для романтических фантазий. В их сексуальности имеются затруднительные обстоятельства: эротическая игра, нежные любовные прелюдии для них важней, чем удовлетворение сексуальных желаний. Им нравится неожиданно сказать: "Побудь со мной еще, и все будет хорошо", - и доставляет большое удовольствие замедлить или отложить завершение сексуальной близости. Они хотят увековечить медовый месяц и с трудом после свадебных высот переносят погружение в повседневность. Они любят разнообразие. Если здоровые установки относительно собственной половой принадлежности и противоположного пола не реализуются, у истерических личностей легко возникает нарушение любовных способностей вплоть до фригидности и нарушений половой потенции. Оба пола рассматривают секс скорее как цель, достижение которой повышает самооценку, и как испытание силы воздействия своих желаний на партнера. Этим они отличаются от личностей с навязчивостями, которые используют секс для привязывания партнера к себе. Для истерических личностей важно упоение от силы своего воздействия на партнера, от того, сколь глубоко влияют на него особенности их характера и сама их сущность. Чем более выражены специфические особенности истерической личностной структуры, тем более требовательными становятся манеры, тем ярче проявляется требовательность в подтверждении собственной ценности. В таких случаях любовная связь имеет доминирующую установку на постоянное подтверждение собственной значимости, в связи с чем необходимо постоянное обновление любви, и усиливается присущее истерическим личностям непостоянство. Потребность в повышении самооценки при этом приводит к новым попыткам удивить окружающих, создать необычную, праздничную атмосферу.
Естественно, что старение вызывает уменьшение привлекательности, носящей преимущественно внешний, поверхностный характер, что, соответственно, приводит к возникновению возрастных кризов. Истерики нуждаются в партнере, но не так, как депрессивные личности, которые не могут жить, не вверяя себя ему; им необходимо зеркало, отражающее их способность возбуждать любовь, для повышения собственной неустойчивой самооценки. Их самолюбование нуждается в постоянном подтверждении. Они легко поддаются лести, в которую охотно верят. Они нуждаются в партнере, прежде всего для того, чтобы заручиться его подтверждением их обаяния, красоты, ценности и привлекательности. В связи с этим они склонны к нарциссическому выбору партнера, однако не в связи с боязнью "всех других" лиц противоположного пола, как это бывает у шизоидов, но в особенности потому, что в партнере надеются найти собственное подобие, в котором вновь обретают и любят самих себя. Нередко истерические личности обоих полов находят для себя невзрачных и малозаметных партнеров, чтобы возвыситься на их фоне и быть объектом их безусловного обожания. Это напоминает басню про павлина, который хотел жениться на простой курице: в книге актов гражданского состояния ворон с удивлением записал, что прекрасный павлин хочет зарегистрировать брак с невзрачной курицей в связи с тем, что, как он многозначительно заметил, "я и моя жена безумно меня любим".
Такая сильная жажда постоянного подтверждения собственной ценности и значимости, естественно, не может быть утолена, ни один партнер не может полностью ее удовлетворить. В таком случае они ищут нового партнера, который мог бы играть возложенную на него истерической личностью роль. Отчаянные авантюристки и ловкие манипуляторы мужскими сердцами являются как бы коллекционерами скальпов, самооценка которых зависит от числа их жертв и для которых любовь есть игра, за которую приходится платить высокую цену. Сколь велики их требования к любви, столь же велики и связанные с этими требованиями и надеждами разочарования: неудовлетворенность, капризы, дурное настроение и придирчивые обвинения после каждой новой любовной авантюры часто заканчиваются финансовыми издержками и неприкрытым преследованием партнера, которого они рассматривают как свою собственность и который, по их мнению, не вправе играть самостоятельную роль. Поскольку самооценка истерических личностей связана исключительно с доказательствами любви к ним, они ненасытны в средствах и способах, с помощью которых добиваются этого: они постоянно сравнивают партнера с другими, "которые умеют любить по-настоящему", подразумевая при этом, что другие способны сделать для них все, что они пожелают; они устраивают сцены и страстно упрекают партнера в том, что он "мало их любит", бурно, катастрофически реагируют, если партнер отдаляется от них. При этом наблюдается такая смесь чувств и расчета, что партнер не может понять, в чем же дело. Если любовь или брак основаны на иллюзорных ожиданиях, то при этом требования к партнеру превышают то, что вкладывает истерическая личность. Это вызывает разочарование, такого рода связь признается неудачной и начинаются новые поиски "большой любви". Для партнерских взаимоотношений истерических личностей характерны частые разрывы и примирения; в конце концов, они требуют возмещения за свое разочарование, в новых связях являются чрезмерно требовательными, что становится источником новых неудач и провалов.
Это подразумевает владение различными инструментами эротики - от флирта и кокетства до овладения искусством обольщения во всех его нюансах. Истерики, как правило, считают, что партнер должен поддерживать в них чувство собственной любовной привлекательности. Они обладают большой силой внушения, от которой трудно уклониться. В сознании своих достоинств и своей привлекательности они принуждают партнера поверить в это. При установлении любовных отношений для них важна, прежде всего, сила желания. Эти люди берут крепость штурмом, не затягивая осаду, по принципу "veni-vidi-vici" - "пришел, увидел, победил". Они легко вступают в контакт с противоположным полом; связь для них не бывает скучной и тягостной. Они любят любовь больше, чем партнера, им нравится знакомство с различными способами и образцами любви, так как они исполнены любопытства и любовного голода. Им нравится блеск и роскошь, праздники и торжества, они готовы праздновать по любому поводу, находясь при этом в центре внимания с помощью своего обаяния, темперамента, непосредственности и экстравагантной одежды. Они считают смертельным грехом, если партнер не нашел в них любовные качества или не оценил их - такое они переносят с трудом и вряд ли могут простить. Для них предпочтительнее ситуация "лучше б уж украли коня", чем спокойная, без сантиментов жизнь. Скука для них смертельно непереносима, они всегда скучают, оставаясь наедине сами с собой. Они яркие, живые, изворотливые партнеры, спонтанные и непредсказуемые в своих чувственных проявлениях, способные к интенсивной кратковременной любви. Они стремятся к наслаждениям, склонны к фантазированию и... часто проигрывают. К верности, по крайней мере, собственной, они относятся пренебрежительно. Тайная, запретная любовь для них особенно привлекательна, так как дает простор для романтических фантазий. В их сексуальности имеются затруднительные обстоятельства: эротическая игра, нежные любовные прелюдии для них важней, чем удовлетворение сексуальных желаний. Им нравится неожиданно сказать: "Побудь со мной еще, и все будет хорошо", - и доставляет большое удовольствие замедлить или отложить завершение сексуальной близости. Они хотят увековечить медовый месяц и с трудом после свадебных высот переносят погружение в повседневность. Они любят разнообразие. Если здоровые установки относительно собственной половой принадлежности и противоположного пола не реализуются, у истерических личностей легко возникает нарушение любовных способностей вплоть до фригидности и нарушений половой потенции. Оба пола рассматривают секс скорее как цель, достижение которой повышает самооценку, и как испытание силы воздействия своих желаний на партнера. Этим они отличаются от личностей с навязчивостями, которые используют секс для привязывания партнера к себе. Для истерических личностей важно упоение от силы своего воздействия на партнера, от того, сколь глубоко влияют на него особенности их характера и сама их сущность. Чем более выражены специфические особенности истерической личностной структуры, тем более требовательными становятся манеры, тем ярче проявляется требовательность в подтверждении собственной ценности. В таких случаях любовная связь имеет доминирующую установку на постоянное подтверждение собственной значимости, в связи с чем необходимо постоянное обновление любви, и усиливается присущее истерическим личностям непостоянство. Потребность в повышении самооценки при этом приводит к новым попыткам удивить окружающих, создать необычную, праздничную атмосферу.
Естественно, что старение вызывает уменьшение привлекательности, носящей преимущественно внешний, поверхностный характер, что, соответственно, приводит к возникновению возрастных кризов. Истерики нуждаются в партнере, но не так, как депрессивные личности, которые не могут жить, не вверяя себя ему; им необходимо зеркало, отражающее их способность возбуждать любовь, для повышения собственной неустойчивой самооценки. Их самолюбование нуждается в постоянном подтверждении. Они легко поддаются лести, в которую охотно верят. Они нуждаются в партнере, прежде всего для того, чтобы заручиться его подтверждением их обаяния, красоты, ценности и привлекательности. В связи с этим они склонны к нарциссическому выбору партнера, однако не в связи с боязнью "всех других" лиц противоположного пола, как это бывает у шизоидов, но в особенности потому, что в партнере надеются найти собственное подобие, в котором вновь обретают и любят самих себя. Нередко истерические личности обоих полов находят для себя невзрачных и малозаметных партнеров, чтобы возвыситься на их фоне и быть объектом их безусловного обожания. Это напоминает басню про павлина, который хотел жениться на простой курице: в книге актов гражданского состояния ворон с удивлением записал, что прекрасный павлин хочет зарегистрировать брак с невзрачной курицей в связи с тем, что, как он многозначительно заметил, "я и моя жена безумно меня любим".
Такая сильная жажда постоянного подтверждения собственной ценности и значимости, естественно, не может быть утолена, ни один партнер не может полностью ее удовлетворить. В таком случае они ищут нового партнера, который мог бы играть возложенную на него истерической личностью роль. Отчаянные авантюристки и ловкие манипуляторы мужскими сердцами являются как бы коллекционерами скальпов, самооценка которых зависит от числа их жертв и для которых любовь есть игра, за которую приходится платить высокую цену. Сколь велики их требования к любви, столь же велики и связанные с этими требованиями и надеждами разочарования: неудовлетворенность, капризы, дурное настроение и придирчивые обвинения после каждой новой любовной авантюры часто заканчиваются финансовыми издержками и неприкрытым преследованием партнера, которого они рассматривают как свою собственность и который, по их мнению, не вправе играть самостоятельную роль. Поскольку самооценка истерических личностей связана исключительно с доказательствами любви к ним, они ненасытны в средствах и способах, с помощью которых добиваются этого: они постоянно сравнивают партнера с другими, "которые умеют любить по-настоящему", подразумевая при этом, что другие способны сделать для них все, что они пожелают; они устраивают сцены и страстно упрекают партнера в том, что он "мало их любит", бурно, катастрофически реагируют, если партнер отдаляется от них. При этом наблюдается такая смесь чувств и расчета, что партнер не может понять, в чем же дело. Если любовь или брак основаны на иллюзорных ожиданиях, то при этом требования к партнеру превышают то, что вкладывает истерическая личность. Это вызывает разочарование, такого рода связь признается неудачной и начинаются новые поиски "большой любви". Для партнерских взаимоотношений истерических личностей характерны частые разрывы и примирения; в конце концов, они требуют возмещения за свое разочарование, в новых связях являются чрезмерно требовательными, что становится источником новых неудач и провалов.
Любовная жизнь истерических личностей осложнятся еще и тем обстоятельством, что они, будучи фиксированными на своей первой связи с персоной противоположного пола, не могут полностью отрешиться от идентификации с ней. В этом отношении истерики остаются на той стадии развития ребенка, соответствующей 4-5 годам, когда он, как мы теперь знаем, идентифицируется с полученными ранее впечатлениями и вырабатывает первоначальные предформы своих представлений о своем и противоположном поле. Принципиально здесь имеются следующие возможности: повторяется детское почитание или идеализация родителя противоположного пола или брата (сестры) по отношению к партнеру, от которого ждут воплощения "мечты о мужчине" ("мечты о женщине"), или пережитые ранее разочарование, страх и ненависть, вызванные непереработанными детскими впечатлениями о личности, осуществлявшей уход за ребенком, как негативный опыт переносятся на партнера. В этом случае к партнеру относятся с предубеждением и с самого начала связи ожидают, что она будет тягостной. Происходит проецирование первоначального образа матери или отца на партнера и установка на этот первоначальный образ, независимо от того, какую, собственно, роль играет партнер, т.е. происходит застревание на давнишней роли "сыночка" или "доченьки". У разочарованного матерью сына может развиться женоненавистничество, он мстит своим партнершам за перенесенное разочарование, уподобляясь Дон Жуану, обольщавшему и покидавшему затем женщин, нанося им ту же боль, какую ему причинила мать. Разочарованные отцом дочери мстят таким же образом мужчинам: у них развивается мужененавистничество или ложное представление о женской эмансипации - они не только стремятся к реализации равных с мужчинами прав и повышению собственной значимости, но "поворачивают копье в обратную сторону", требуя равенства из соображений мести и занимая при этом чисто женскую позицию. Или же они отшвыривают от себя мужчин, рассматривая контакт с ними как встречу с нелюбящим, отвергающим их отцом ("если ты меня не любишь, то я не желаю обращать на тебя внимание, и убирайся прочь" - психодинамическая основа некоторых девственниц). Некоторые из них, как Цирцея из "Одиссеи" Гомера, привлекают мужчин только своей сексуальностью, избирая различные формы соблазнения, и при этом используют и унижают мужчин, "превращая их в свиней". Близки к этому типу и те женщины, которые предъявляют мужчинам чрезмерные физические, психологические и материальные требования, используя, изматывая и лишая их силы и власти, как бы "кастрируя" их и унижая их мужское достоинство. В конце концов разочарованность противоположным полом или страх перед ним приводят к гомосексуализму. Может быть также, что при этом сестра или брат заменяют мать или отца. Связь с первыми впечатлениями от персоны противоположного пола, осуществляющей уход за ребенком, является общечеловеческим феноменом, который французы выразили следующим образом: "Мы всегда возвращаемся к своей первой любви". Примеры зависимости от личности, осуществлявшей уход за ребенком в раннем детстве, от их "семейного романа" столь известны, что истерические личности нередко попадают в ситуацию "треугольной" зависимости, в которой подсознательно повторяется их положение между двумя родителями и которая нередко встречается в качестве основы структурирования личности в семье с единственным ребенком. Им кажется, что, находясь в таком "треугольнике", они брошены на волю рока и часто, ссылаясь на "судьбу", говорят о том, что их постоянно "толкает" на такие отношения, что все мужчины или женщины, которые им встречались, уже связаны с другими. На самом деле, в поисках партнера, связанного с другим, зная о том, что он не свободен, истерические личности как бы возобновляют давнишнее соперничество с матерью или отцом. Они фиксированы на том, чтобы увести избранника от другого, вступая с покинутым в сопернические отношения, и всячески стремятся его уколоть, одновременно требуя от любовника серьезности, ответственности и проявления бурной радости от новой связи.
Знакомство с любовными историями каждого человека помогает понять его поведение. Истерические личности продолжают грешить и совершать ошибки, отрицая при этом какую-либо связь своего поведения с семейным анамнезом, и полагают, что их женственность или мужские качества развивались нормально. Иногда они не имеют представления о развитии их собственной половой роли и откликаются на любые сексуальные требования, поставив свою половую идентификацию в различных ее вариантах в зависимость от ее оценки партнером. При этом следует учитывать, что развитие женственности или мужественности зависит также от душевной и сексуальной зрелости. Основные проблемы жизни истериков усматриваются в связи любви и партнерских отношений с их иллюзорными ожиданиями и представлениями о жизни, любви, браке и вообще о противоположном поле. Их требовательная позиция по отношению к другим без готовности удовлетворить запросы партнера и заботиться о нем приводит их к новым разочарованиям, дающим право сделать вывод о том, что жизненные установки истериков основаны на иллюзиях и потому разочарование так неотвратимо. Страстное и активное желание в сочетании с полными радостных предвкушений запросами без собственного участия в создании таких отношений является проблематичной стороной этих личностей. При выборе партнера для них важно его положение, возможности, титул и другие внешние атрибуты, характеризующие его ценность и значимость. И в этом они остаются детьми, которым импонируют внешние атрибуты, являющиеся, как им кажется, источником хорошей жизни; вину за свои разочарования они, как правило, возлагают на партнера. Страх собственной несостоятельности вызывает у них влечение к подтверждению своей способности к любви, своей самоценности, и это влечение они реализуют в своих требованиях к внешнему окружению. Склонность проецировать вовне свои собственные недостатки вызывает, естественно, много проблем в партнерских взаимоотношениях. Истерические личности могут использовать различные варианты упреков и находят множество причин, чтобы обвинить партнера, предъявляя при этом тенденциозные обвинения, искажая факты, пользуясь "кривой логикой", клеветой и интригами. Особенно тяжело развиваются взаимоотношения между истериками и личностями с навязчивым развитием, являющимися как бы противоположными по структуре. Чем больше партнер с навязчивым развитием неумолимо-последовательно настаивает на своем и в сложившейся ситуации безапелляционно доказывает свою правоту, тем больше уклоняется от такой последовательности истерический партнер, прибегая к непостижимой "логике", перескакивая от одной мысли к другой, что напоминает совершенно беспорядочное движение фигур на шахматной доске без установленных правил.
При этом истерики, с одной стороны, имеют тенденцию избавляться от докучливого партнера, а с другой, при этом, хотят распоряжаться им. Будучи достаточно гибкими, они не сжигают за собой мосты и оставляют открытой дорогу назад. Однако вместо этого партнер с навязчивым развитием остается припертым к стенке, безуспешно пытаясь понять и истолковать переживания своего истерического партнера. Шизоидные партнеры инстинктивно избегают истерических личностей, они легко их разгадывают и проявляют мало готовности восторгаться ими и подтверждать их притязания. Поэтому истерические личности охотней избирают себе партнеров с депрессивным развитием, которые проявляют готовность и в дальнейшем выполнять повышенные требования истериков; продолжительность такой связи является хорошей ценой для депрессивных личностей. Связь между двумя истерическими партнерами удовлетворяет их лишь тогда, когда истерические черты не очень сильно выражены. В противном случае соперничество и взаимное подкалывание является неизбежным подводным камнем таких взаимоотношений. В художественной литературе мы находим много примеров изображения истерических женщин (Скарлетт в романе М. Митчелл "Унесенные ветром"). Из писем Пушкина хорошо известны трудности при взаимоотношениях с женщинами, у которых преобладала истерическая структура личности. Такого же рода коллизии описаны в "Сказке о рыбаке и рыбке".
Знакомство с любовными историями каждого человека помогает понять его поведение. Истерические личности продолжают грешить и совершать ошибки, отрицая при этом какую-либо связь своего поведения с семейным анамнезом, и полагают, что их женственность или мужские качества развивались нормально. Иногда они не имеют представления о развитии их собственной половой роли и откликаются на любые сексуальные требования, поставив свою половую идентификацию в различных ее вариантах в зависимость от ее оценки партнером. При этом следует учитывать, что развитие женственности или мужественности зависит также от душевной и сексуальной зрелости. Основные проблемы жизни истериков усматриваются в связи любви и партнерских отношений с их иллюзорными ожиданиями и представлениями о жизни, любви, браке и вообще о противоположном поле. Их требовательная позиция по отношению к другим без готовности удовлетворить запросы партнера и заботиться о нем приводит их к новым разочарованиям, дающим право сделать вывод о том, что жизненные установки истериков основаны на иллюзиях и потому разочарование так неотвратимо. Страстное и активное желание в сочетании с полными радостных предвкушений запросами без собственного участия в создании таких отношений является проблематичной стороной этих личностей. При выборе партнера для них важно его положение, возможности, титул и другие внешние атрибуты, характеризующие его ценность и значимость. И в этом они остаются детьми, которым импонируют внешние атрибуты, являющиеся, как им кажется, источником хорошей жизни; вину за свои разочарования они, как правило, возлагают на партнера. Страх собственной несостоятельности вызывает у них влечение к подтверждению своей способности к любви, своей самоценности, и это влечение они реализуют в своих требованиях к внешнему окружению. Склонность проецировать вовне свои собственные недостатки вызывает, естественно, много проблем в партнерских взаимоотношениях. Истерические личности могут использовать различные варианты упреков и находят множество причин, чтобы обвинить партнера, предъявляя при этом тенденциозные обвинения, искажая факты, пользуясь "кривой логикой", клеветой и интригами. Особенно тяжело развиваются взаимоотношения между истериками и личностями с навязчивым развитием, являющимися как бы противоположными по структуре. Чем больше партнер с навязчивым развитием неумолимо-последовательно настаивает на своем и в сложившейся ситуации безапелляционно доказывает свою правоту, тем больше уклоняется от такой последовательности истерический партнер, прибегая к непостижимой "логике", перескакивая от одной мысли к другой, что напоминает совершенно беспорядочное движение фигур на шахматной доске без установленных правил.
При этом истерики, с одной стороны, имеют тенденцию избавляться от докучливого партнера, а с другой, при этом, хотят распоряжаться им. Будучи достаточно гибкими, они не сжигают за собой мосты и оставляют открытой дорогу назад. Однако вместо этого партнер с навязчивым развитием остается припертым к стенке, безуспешно пытаясь понять и истолковать переживания своего истерического партнера. Шизоидные партнеры инстинктивно избегают истерических личностей, они легко их разгадывают и проявляют мало готовности восторгаться ими и подтверждать их притязания. Поэтому истерические личности охотней избирают себе партнеров с депрессивным развитием, которые проявляют готовность и в дальнейшем выполнять повышенные требования истериков; продолжительность такой связи является хорошей ценой для депрессивных личностей. Связь между двумя истерическими партнерами удовлетворяет их лишь тогда, когда истерические черты не очень сильно выражены. В противном случае соперничество и взаимное подкалывание является неизбежным подводным камнем таких взаимоотношений. В художественной литературе мы находим много примеров изображения истерических женщин (Скарлетт в романе М. Митчелл "Унесенные ветром"). Из писем Пушкина хорошо известны трудности при взаимоотношениях с женщинами, у которых преобладала истерическая структура личности. Такого же рода коллизии описаны в "Сказке о рыбаке и рыбке".
Истерическая личность и агрессия
Специфическими формами агрессии, которые свойственны детям в возрасте от 4 до 6 лет, являются соперничество и конкуренция. Несмотря на дальнейшее развитие, ранние формы агрессии сохраняются и позже. В специфических для данного пола формах эта агрессия в своей основе носит характер саморекламы и овладения или всеобщей борьбы за все, что укрепляет и увеличивает ценность истерической личности, и против всего, что этой самооценке угрожает. Агрессия, как правило, является следствием самооправдания и стремления к самозащите и проявляется в спорах и конкурентных взаимоотношениях, из которых истерические личности извлекают для себя пользу. В противоположность реакциям ранее описанных личностей с навязчивым развитием, агрессивные реакции у истерических личностей гибки, спонтанны, они не сопровождаются выраженной тревогой и злопамятностью и, к тому же, менее продолжительны. Эти реакции достигают различной степени импульсивных проявлений вплоть до произвола и меньше определяются фактами, чем личностными связями и личностной несовместимостью. Чем больше выражены истерические расстройства, тем больше проявляется агрессивность; гибрид самовосхваления и аферизма может принять экстремальные формы, а необычная впечатлительность и чувствительность - привести к нарциссическому заболеванию. Нередко наблюдается непомерное хвастовство, стремление к расточительству; они оттесняют других, для того чтобы играть первую скрипку и быть на первом плане; каждый однополый "другой" является потенциальным соперником, и они всячески стремятся унизить его и затмить собственным блеском. У истериков часто встречается стремление импонировать, они хотят произвести безусловное, неизгладимое впечатление. Стремление быть в центре внимания и произвести впечатление может достигать весьма высокой степени из-за неумения проводить различие между кажущимся и действительным, желаемым и реальным. В связи с недостаточностью самокритики и самоконтроля агрессия у истерических личностей носит импульсивный характер, она легко возникает вследствие их увлеченности, которая вообще преобладает у личностей такой структуры. При агрессии в отношении партнеров для них характерны следующие обобщения: "все мужчины - тряпки", "все женщины - дуры". Истерическая агрессия нередко принимает архаичные формы "двигательной бури", однако если у шизоидов это проявление чувства экзистенциальной угрозы их сущности, то у истериков это проявление потребности в драматизировании, в том, чтобы произвести впечатление на окружающих. Истерики в своих проявлениях стремятся произвести впечатление и поразить окружающих, что нередко может расцениваться как заранее предусмотренная стратегия. Для них нападение есть лучшая защита.
Другую особенность истерической стратегии можно определить как "нелогичность". Вследствие недостатка идентификации с самим собой это приводит к тому, что основа личности, ее базис становится более зыбким и неустойчивым; из-за болезненного и уязвимого самолюбия происходит высвобождение чувства ненависти, которое взаимодействует со страхом перед обесцениванием своего "Я".
Особой формой истерической агрессии является интриганство. Возникновение этой формы агрессии можно заметить в семейных отношениях: подсознательно повторяется ситуация, когда ребенок становится между родителями или, по крайней мере, между братом (сестрой) и родителями, когда он вынужден лавировать между ними, настраивая одного родителя против другого или против брата (сестры), обыгрывая их привязанность к себе или другому. Такого рода давнишние семейные проблемы переносятся повзрослевшими истерическими личностями на новые объекты межперсональных отношений. Интриги, распускание слухов, унижающих достоинство других и уменьшающих их общественную значимость, мстительное поведение характерны для них. Сюда же относится половая ненависть, приобретающая иногда формы экстремального влечения к мести. Истерическая агрессия склонна принимать сценические формы, достигая при этом наибольшей выразительности, если имеется возможность проявить свои дарования публично. Пламенное негодование, патетические жесты, страстные призывы и жалобы являются типичным проявлением истерической агрессии, которая может внезапно ослабеть, если публика больше эти сцены не созерцает.
Другую особенность истерической стратегии можно определить как "нелогичность". Вследствие недостатка идентификации с самим собой это приводит к тому, что основа личности, ее базис становится более зыбким и неустойчивым; из-за болезненного и уязвимого самолюбия происходит высвобождение чувства ненависти, которое взаимодействует со страхом перед обесцениванием своего "Я".
Особой формой истерической агрессии является интриганство. Возникновение этой формы агрессии можно заметить в семейных отношениях: подсознательно повторяется ситуация, когда ребенок становится между родителями или, по крайней мере, между братом (сестрой) и родителями, когда он вынужден лавировать между ними, настраивая одного родителя против другого или против брата (сестры), обыгрывая их привязанность к себе или другому. Такого рода давнишние семейные проблемы переносятся повзрослевшими истерическими личностями на новые объекты межперсональных отношений. Интриги, распускание слухов, унижающих достоинство других и уменьшающих их общественную значимость, мстительное поведение характерны для них. Сюда же относится половая ненависть, приобретающая иногда формы экстремального влечения к мести. Истерическая агрессия склонна принимать сценические формы, достигая при этом наибольшей выразительности, если имеется возможность проявить свои дарования публично. Пламенное негодование, патетические жесты, страстные призывы и жалобы являются типичным проявлением истерической агрессии, которая может внезапно ослабеть, если публика больше эти сцены не созерцает.
Допольнительно:
Истерические личности живут в псевдореальности, и мы можем выявить это в различных областях. Вопрос подлинности представляет для них центральную проблему, так как является внутренним отражением их бегства от реальности в "роль". Религия воспринимается ими легко, при этом вера для них необязательна и они посещают церковь из чистого прагматизма, потому что так принято. Для них показное важнее истинного, им достаточно соблюдать внешнюю форму. Мысль о том, что раскаяние и исповедь избавляют от грехов и поэтому можно снова стать невинным, как новорожденный, кажется им прекрасной. Для них характерно представление о своем, персональном Боге, который в их понимании является любящим отцом, который иногда дает указания. Они во многом остаются по-детски незрелыми, наивными и верящими в чудеса, обольщаются различными предсказаниями и обещаниями выздоровления. Они готовы оказать помощь другим, если это не требует какого-либо напряжения и серьезных усилий с их стороны. Они становятся приверженцами различных сект, удовлетворяющих их потребности в сенсациях. Как пациенты психотерапевта они отдают предпочтение гипнозу, который в мгновение ока разрешает их трудности без приложения их собственных усилий. Касательно этики они имеют сходные наивно-необязательные установки. Возможность найти "козла отпущения" и свалить свою вину на другого используется ими очень широко. Из-за того, что им не свойственны самостоятельность суждений и самокритика, они редко учатся на своих ошибках. В какой-то степени истерическая конституция свойственна всем людям как проявление частичной фиксации на ранних фазах развития с новыми для данной личности задачами и страхами. Об этом напоминают нам подобные детским процессы проецирования собственных или коллективных недостатков и чувства вины на других, что может приобретать большое значение. Здесь особенно хорошо работает проекция по типу "поиска врага", так как враги способствуют уменьшению или снятию собственной вины. Каждый народ, религиозная община и раса проявляют тенденцию проецировать на других то, что они признают неподходящим для себя. Бессовестные властители раздувают эту готовность к проекции и используют ее в политических и идеологических целях. Такая неконтролируемая тенденция является ничем иным, как психодинамической основой разжигания и окончательного развязывания войн, расовой ненависти и религиозной вражды. Стремление освободиться от прошлого, отягощенного чувством вины, есть всеобщая человеческая потребность. В противоположность депрессивным личностям, склонным винить во всем себя, истерики забывают или отрицают свою вину.
Как родители и воспитатели личности с истерическим развитием отличаются восторженностью и увлеченностью, они обладают большой суггестивной силой, что придает их детям чувство того, что жизнь прекрасна и бесценна. В своих эмоциональных симпатиях они скорее спонтанны, чем гармоничны. Дети считают, что родители любят их, гордятся и восторгаются ими; родительский дом отличается атмосферой гостеприимства, дети, по крайней мере, до той поры, пока они не распознают того, что таится за внешне благополучным фасадом, считают, что многие им завидуют. При истерической структуре личности родителей трудности заключаются в недостатке последовательности в воспитании; баловство и запреты резко сменяют друг друга, что затрудняет для ребенка ориентацию в окружающем. Он не знает, с какими замечаниями он должен считаться, ибо поведение взрослых больше обусловлено настроением, а не объективными факторами. Он вовлекают детей в атмосферу "апрельского климата", что хаотизирует их и вызывает у них неуверенность. Часто такие родители пробуждают в детях ложные или несбыточные ожидания. Когда они проявляют недовольство ребенком или запрещают ему что-либо, то одновременно дают неопределенное обещание исполнить его желания в будущем, "когда ты станешь немного старше"; их отказы и запреты не сопровождаются необходимыми разъяснениями и непонятны для ребенка; каждый отказ или запрет в таких случаях связан для ребенка с ожиданием вознаграждения. Они пробуждают в детях опасные ожидания удивительного, сказочного будущего, поддерживают в них иллюзорные желания и представления вместо того, чтобы направлять их на реальное восприятие действительности. Они не дают детям правильного руководства и умений для дальнейшего жизненного пути, благоразумных наставлений и необходимого опыта, и позже это приводит к жизненным разочарованиям. С одной стороны, они привязывают к себе ребенка, с другой - внезапно отталкивают его от себя. Когда им предъявляют претензии, они ссылаются на жизненные трудности и призывают к ответственности, когда требуется понимание проблем ребенка, они оставляют его одного, не понимая, что доброе слово, сказанное во время, стоит больше последующих клятв в любви. ного, не понимая, что доброе слово, сказанное во время, стоит больше последующих клятв в любви. Они не переносят, когда их критикуют дети, принимая это как личную обиду и лишь увеличивая тем самым число совершаемых ими ошибок. В отличие от лиц с навязчивым развитием, они действуют, руководствуясь не претензиями на власть и собственную непогрешимость, а тщеславием и уязвленным самолюбием. Если они призывают детей к ответу, то при этом говорят не столько о проступке ребенка, сколько о том, как они жертвуют собой ради ребенка, как о нем заботятся, так что дети испытывают вину за свою неблагодарность. Опасной является их склонность воспитывать в детях демонстративность: дети должны все делать для того, чтобы прославить родителей, и не вправе разочаровывать их даже тогда, когда их лишают родительской любви. При этом возрастает опасность того, что ребенок начнет злоупотреблять навязанной ему ролью. Отчасти это связано с тем, что ребенок начинает злоупотреблять впечатлением, которое он производит, а также заменяет собственные неудовлетворенные желания выполнением желаний других.
В политике истерические личности охотно представляют либеральные или революционные партии не в последнюю очередь из-за жажды сенсаций, а также в связи с некоторой неудовлетворенностью и неопределенными ожиданиями будущего. Они, однако, отнюдь не такие жестокие и бескомпромиссные революционеры, как шизоиды. Истерики иногда очень наивно верят в прогресс, надеясь, что новое уже тем хорошо, что оно отличается от настоящего. Этим они отличаются от лиц с навязчивым развитием, которые держатся за старое только потому, что оно известно и апробировано. Будучи политиками, они являются также вдохновенными, увлекающимися ораторами, которые много и охотно обещают своим слушателям. Среди них часто встречаются натуры, склонные к лидерству, имеющие новые подходы и намечающие новые пути, но пренебрегающие рутинной, мелочной работой для претворения в жизнь своих идей. Они могут соблазнять и совращать своих избирателей, используя их для выполнения своих тайных желаний. В основе этих "высоких игр" лежит принцип "после нас хоть потоп". Они не жалеют о том, что произошло, часто напоминая игроков, ставящих ва-банк. Рискуя, они не разочаровываются при проигрыше и все начинают сначала, напоминая "ваньку-встаньку".
В социальных областях им подходят все профессии, которые требуют персонифицированного отношения, гибкого реагирования, мгновенной оценки ситуации, маневренности, умения наладить доброжелательные контакты, способности приспособиться к быстро меняющимся обстоятельствам - короче говоря, они предупредительны и любезны там, где могут быть быстро реализованы их желания. Сюда относятся все виды деятельности, где они могут представительствовать, где сан и звание предпочтительнее должности, так как символизируют почет и награды; причем они идентифицируют себя с высоким саном и званием. При этом сан и должность для них связаны не столько с исполнением обязанностей и долгом, как у навязчивых личностей, сколько с теми возможностями, которые могут возвысить их личность и сделать ее блистательной. Особенно их привлекают ордена и титулы. Им подходит любая деятельность, при которой их способность к установлению контактов и потребность в межчеловеческих отношениях соответствуют задаче удивить и обрадовать публику. Будучи представителями фирмы или продавцами, они обладают большой силой внушения и сбывают покупателю залежалый товар, представляя это как необыкновенно удачную покупку и заставляя покупателя приобрести, к примеру, галстук, как будто это главная часть одежды. Они всегда занимают то место, где могут поразить окружающих своей привлекательностью, представительностью, ловкостью и показной целеустремленностью. Их привлекают все профессии, которые соответствуют их неопределенным упованиям на то, чтобы попасть в высший свет, и которым сопутствует рек лама и упоминания об их достоинствах: фотомодели, манекенщицы, мастера по украшениям и украшательству, организаторы гостиничного обслуживания - все это подходящие для истериков занятия. В своей работе они проявляют больше персональных, чем деловых качеств, и там, где их личные качества востребованы, они справляются со своими обязанностями. При соответствующей одаренности они могут сублимировать в искусство, прежде всего изобразительное и хореографическое, свои задатки и свойства, свои фантазии и желания, силу своего воображения, способность к самовыражению и радость от перевоплощения.
Старость и смерть, в конечном итоге, являются неизбежной реальностью нашей жизни, которую мы не можем отодвинуть надолго. Из-за неумения воспринимать реальность и склонять голову перед необходимостью истерические личности склонны как можно более длительное время закрывать глаза на эту реальность. Старость и смерть совершенно естественны, от них нельзя уклониться - с этим они согласны, но относят, по преимуществу, к другим, а не к самим себе. В связи с этим они пытаются, по возможности, поддерживать иллюзию вечной молодости и считают, что перед ними простирается безграничное будущее, богатое неожиданными возможностями. Особенно чувствительны они к тем методикам и практическим советам, которые соответствуют их стремлению остаться молодыми, и к учениям, касающимся продолжения жизни после смерти и дальнейшего существования их личности.
Они с трудом понимают достоинства и преимущества возраста и к тому же имеют способность переосмысливать свое прошлое и жить воспоминаниями, реконструируя их желательным для себя образом - так, чтобы играть в них главную роль. Некоторые из них, однако, находят в себе силы придать своему уходу с жизненной сцены характер впечатляющего зрелища величия смерти. Искусство во всех его формах является преимущественным увлечением истерических личностей. Их творчество, несомненно, носит черты их личности. Иногда они склонны к настоящему эксгибиционизму; они пишут прекрасные письма и автобиографии, в которых с пылкостью приукрашают себя. Красочность, оригинальность и живость являются их сильными сторонами. Формальная сторона дела для них часто не имеет значения. Им свойственно грезить наяву, что может представлять для них угрозу, так как их фантазии не находят применения в реальной жизни. Скорее напротив. Мир фантазий и желаний отдаляет их от действительности, и только деятели искусства в своем творчестве стремятся изобразить этот мир и тем установить связь с реальностью. Сновидения истериков, отражая их структурно-специфическую проблематику, представляют часто наивную форму исполнения желаний и носят в чем-то иллюзионистский характер, поскольку в них происходит пренебрежение законами реальности, так что они близки к сказкам. Потенциальное разрешение существующих проблем реализуется во сне - спасаясь от безысходной ситуации, здесь можно улететь или, обретя магические способности, внезапно погрузиться в воду и избежать катастрофы. Вытесненный в глубину подсознания страх нередко выявляется в сновидениях, когда земля внезапно проваливается под ногами или человек вдруг оказывается перед пропастью (ситуация, отраженная в картине, изображающей всадника на дне моря). Их сны большей частью цветные, подвижные, полные событий; многие из них запоминаются. Достаточно часто во сне решаются сложные задачи, державшие долгое время в напряжении или возлагавшиеся ранее на других.
Попытка определить линию возрастания истерических личностных особенностей от здоровых людей с отдельными истерическими чертами характера до легких и тяжелых расстройств этой структуры дает следующие градации: жизнерадостно-импульсивные, эгоистичные и напористые - люди с нарциссическими потребностями к самоутверждению и желанием быть в центре внимания - лица с чрезмерной напористостью и влечением к контактам - папенькины доченьки и маменькины сыночки, которые никак не могут оторваться от "семейного романа" - истерическая лживость - театральность и бегство от реальности вплоть до афер - "вечные подростки" - лица без четкой женской или мужской личностной структуры, не воспринявшие своей половой роли, нередко с гомосексуальными склонностями - так называемые "кастраты": женщины с деструктивными тенденциями мужененавистничества и мужчины типа "донжуанов", чье поведение определяется жаждой мести женщинам - фобии - тяжелые истерические картины болезни с психотической и соматической симптоматикой, которая не может быть связана с поражением каких-либо органов или систем - лица с предпочтительно экстремальными проявлениями (признаки истерического паралича).
Здоровые люди с истерическими чертами в личностной структуре с радостью идут на риск, предприимчивы, всегда готовы к восприятию нового; они гибки, пластичны, жизнерадостны, блестящи, увлекают других своим жизнелюбием и спонтанностью, готовы все испытать и склонны к импровизации. Они заводилы в компаниях, никогда не скучают, им всегда "чего-то не хватает", они любят все начинания и полны оптимистических ожиданий и представлений о жизни. Каждое начало содержит для них все шансы на успех, таит в себе волшебство, как упомянуто в эпиграфе к этой главе. Они во все привносят движение, сотрясают застоялые, устаревшие догмы, преодолевая их с помощью большой силы убеждения и сознательно используя свою привлекательность. Они ничего не воспринимают серьезно, за исключением, быть может, самих себя, потому что "Я" для них - единственная реальность в жизни. Им свойственны сильные импульсы самоутверждения, и они более способны вносить в ситуацию динамическое начало, нежели терпеливо, планомерно и выносливо добиваться результата. Однако именно их нетерпеливость, их любопытство и неотягощенность прошлым иногда дают им шанс видеть и охватывать то, что недоступно другим, и тем самым расширять границы нашего познания и наших возможностей. Они смотрят на жизнь с отвагой и своенравием авантюристов, и смысл жизни для них заключается в том, чтобы она была богатой, интенсивной и изобильной.
Как родители и воспитатели личности с истерическим развитием отличаются восторженностью и увлеченностью, они обладают большой суггестивной силой, что придает их детям чувство того, что жизнь прекрасна и бесценна. В своих эмоциональных симпатиях они скорее спонтанны, чем гармоничны. Дети считают, что родители любят их, гордятся и восторгаются ими; родительский дом отличается атмосферой гостеприимства, дети, по крайней мере, до той поры, пока они не распознают того, что таится за внешне благополучным фасадом, считают, что многие им завидуют. При истерической структуре личности родителей трудности заключаются в недостатке последовательности в воспитании; баловство и запреты резко сменяют друг друга, что затрудняет для ребенка ориентацию в окружающем. Он не знает, с какими замечаниями он должен считаться, ибо поведение взрослых больше обусловлено настроением, а не объективными факторами. Он вовлекают детей в атмосферу "апрельского климата", что хаотизирует их и вызывает у них неуверенность. Часто такие родители пробуждают в детях ложные или несбыточные ожидания. Когда они проявляют недовольство ребенком или запрещают ему что-либо, то одновременно дают неопределенное обещание исполнить его желания в будущем, "когда ты станешь немного старше"; их отказы и запреты не сопровождаются необходимыми разъяснениями и непонятны для ребенка; каждый отказ или запрет в таких случаях связан для ребенка с ожиданием вознаграждения. Они пробуждают в детях опасные ожидания удивительного, сказочного будущего, поддерживают в них иллюзорные желания и представления вместо того, чтобы направлять их на реальное восприятие действительности. Они не дают детям правильного руководства и умений для дальнейшего жизненного пути, благоразумных наставлений и необходимого опыта, и позже это приводит к жизненным разочарованиям. С одной стороны, они привязывают к себе ребенка, с другой - внезапно отталкивают его от себя. Когда им предъявляют претензии, они ссылаются на жизненные трудности и призывают к ответственности, когда требуется понимание проблем ребенка, они оставляют его одного, не понимая, что доброе слово, сказанное во время, стоит больше последующих клятв в любви. ного, не понимая, что доброе слово, сказанное во время, стоит больше последующих клятв в любви. Они не переносят, когда их критикуют дети, принимая это как личную обиду и лишь увеличивая тем самым число совершаемых ими ошибок. В отличие от лиц с навязчивым развитием, они действуют, руководствуясь не претензиями на власть и собственную непогрешимость, а тщеславием и уязвленным самолюбием. Если они призывают детей к ответу, то при этом говорят не столько о проступке ребенка, сколько о том, как они жертвуют собой ради ребенка, как о нем заботятся, так что дети испытывают вину за свою неблагодарность. Опасной является их склонность воспитывать в детях демонстративность: дети должны все делать для того, чтобы прославить родителей, и не вправе разочаровывать их даже тогда, когда их лишают родительской любви. При этом возрастает опасность того, что ребенок начнет злоупотреблять навязанной ему ролью. Отчасти это связано с тем, что ребенок начинает злоупотреблять впечатлением, которое он производит, а также заменяет собственные неудовлетворенные желания выполнением желаний других.
В политике истерические личности охотно представляют либеральные или революционные партии не в последнюю очередь из-за жажды сенсаций, а также в связи с некоторой неудовлетворенностью и неопределенными ожиданиями будущего. Они, однако, отнюдь не такие жестокие и бескомпромиссные революционеры, как шизоиды. Истерики иногда очень наивно верят в прогресс, надеясь, что новое уже тем хорошо, что оно отличается от настоящего. Этим они отличаются от лиц с навязчивым развитием, которые держатся за старое только потому, что оно известно и апробировано. Будучи политиками, они являются также вдохновенными, увлекающимися ораторами, которые много и охотно обещают своим слушателям. Среди них часто встречаются натуры, склонные к лидерству, имеющие новые подходы и намечающие новые пути, но пренебрегающие рутинной, мелочной работой для претворения в жизнь своих идей. Они могут соблазнять и совращать своих избирателей, используя их для выполнения своих тайных желаний. В основе этих "высоких игр" лежит принцип "после нас хоть потоп". Они не жалеют о том, что произошло, часто напоминая игроков, ставящих ва-банк. Рискуя, они не разочаровываются при проигрыше и все начинают сначала, напоминая "ваньку-встаньку".
В социальных областях им подходят все профессии, которые требуют персонифицированного отношения, гибкого реагирования, мгновенной оценки ситуации, маневренности, умения наладить доброжелательные контакты, способности приспособиться к быстро меняющимся обстоятельствам - короче говоря, они предупредительны и любезны там, где могут быть быстро реализованы их желания. Сюда относятся все виды деятельности, где они могут представительствовать, где сан и звание предпочтительнее должности, так как символизируют почет и награды; причем они идентифицируют себя с высоким саном и званием. При этом сан и должность для них связаны не столько с исполнением обязанностей и долгом, как у навязчивых личностей, сколько с теми возможностями, которые могут возвысить их личность и сделать ее блистательной. Особенно их привлекают ордена и титулы. Им подходит любая деятельность, при которой их способность к установлению контактов и потребность в межчеловеческих отношениях соответствуют задаче удивить и обрадовать публику. Будучи представителями фирмы или продавцами, они обладают большой силой внушения и сбывают покупателю залежалый товар, представляя это как необыкновенно удачную покупку и заставляя покупателя приобрести, к примеру, галстук, как будто это главная часть одежды. Они всегда занимают то место, где могут поразить окружающих своей привлекательностью, представительностью, ловкостью и показной целеустремленностью. Их привлекают все профессии, которые соответствуют их неопределенным упованиям на то, чтобы попасть в высший свет, и которым сопутствует рек лама и упоминания об их достоинствах: фотомодели, манекенщицы, мастера по украшениям и украшательству, организаторы гостиничного обслуживания - все это подходящие для истериков занятия. В своей работе они проявляют больше персональных, чем деловых качеств, и там, где их личные качества востребованы, они справляются со своими обязанностями. При соответствующей одаренности они могут сублимировать в искусство, прежде всего изобразительное и хореографическое, свои задатки и свойства, свои фантазии и желания, силу своего воображения, способность к самовыражению и радость от перевоплощения.
Старость и смерть, в конечном итоге, являются неизбежной реальностью нашей жизни, которую мы не можем отодвинуть надолго. Из-за неумения воспринимать реальность и склонять голову перед необходимостью истерические личности склонны как можно более длительное время закрывать глаза на эту реальность. Старость и смерть совершенно естественны, от них нельзя уклониться - с этим они согласны, но относят, по преимуществу, к другим, а не к самим себе. В связи с этим они пытаются, по возможности, поддерживать иллюзию вечной молодости и считают, что перед ними простирается безграничное будущее, богатое неожиданными возможностями. Особенно чувствительны они к тем методикам и практическим советам, которые соответствуют их стремлению остаться молодыми, и к учениям, касающимся продолжения жизни после смерти и дальнейшего существования их личности.
Они с трудом понимают достоинства и преимущества возраста и к тому же имеют способность переосмысливать свое прошлое и жить воспоминаниями, реконструируя их желательным для себя образом - так, чтобы играть в них главную роль. Некоторые из них, однако, находят в себе силы придать своему уходу с жизненной сцены характер впечатляющего зрелища величия смерти. Искусство во всех его формах является преимущественным увлечением истерических личностей. Их творчество, несомненно, носит черты их личности. Иногда они склонны к настоящему эксгибиционизму; они пишут прекрасные письма и автобиографии, в которых с пылкостью приукрашают себя. Красочность, оригинальность и живость являются их сильными сторонами. Формальная сторона дела для них часто не имеет значения. Им свойственно грезить наяву, что может представлять для них угрозу, так как их фантазии не находят применения в реальной жизни. Скорее напротив. Мир фантазий и желаний отдаляет их от действительности, и только деятели искусства в своем творчестве стремятся изобразить этот мир и тем установить связь с реальностью. Сновидения истериков, отражая их структурно-специфическую проблематику, представляют часто наивную форму исполнения желаний и носят в чем-то иллюзионистский характер, поскольку в них происходит пренебрежение законами реальности, так что они близки к сказкам. Потенциальное разрешение существующих проблем реализуется во сне - спасаясь от безысходной ситуации, здесь можно улететь или, обретя магические способности, внезапно погрузиться в воду и избежать катастрофы. Вытесненный в глубину подсознания страх нередко выявляется в сновидениях, когда земля внезапно проваливается под ногами или человек вдруг оказывается перед пропастью (ситуация, отраженная в картине, изображающей всадника на дне моря). Их сны большей частью цветные, подвижные, полные событий; многие из них запоминаются. Достаточно часто во сне решаются сложные задачи, державшие долгое время в напряжении или возлагавшиеся ранее на других.
Попытка определить линию возрастания истерических личностных особенностей от здоровых людей с отдельными истерическими чертами характера до легких и тяжелых расстройств этой структуры дает следующие градации: жизнерадостно-импульсивные, эгоистичные и напористые - люди с нарциссическими потребностями к самоутверждению и желанием быть в центре внимания - лица с чрезмерной напористостью и влечением к контактам - папенькины доченьки и маменькины сыночки, которые никак не могут оторваться от "семейного романа" - истерическая лживость - театральность и бегство от реальности вплоть до афер - "вечные подростки" - лица без четкой женской или мужской личностной структуры, не воспринявшие своей половой роли, нередко с гомосексуальными склонностями - так называемые "кастраты": женщины с деструктивными тенденциями мужененавистничества и мужчины типа "донжуанов", чье поведение определяется жаждой мести женщинам - фобии - тяжелые истерические картины болезни с психотической и соматической симптоматикой, которая не может быть связана с поражением каких-либо органов или систем - лица с предпочтительно экстремальными проявлениями (признаки истерического паралича).
Здоровые люди с истерическими чертами в личностной структуре с радостью идут на риск, предприимчивы, всегда готовы к восприятию нового; они гибки, пластичны, жизнерадостны, блестящи, увлекают других своим жизнелюбием и спонтанностью, готовы все испытать и склонны к импровизации. Они заводилы в компаниях, никогда не скучают, им всегда "чего-то не хватает", они любят все начинания и полны оптимистических ожиданий и представлений о жизни. Каждое начало содержит для них все шансы на успех, таит в себе волшебство, как упомянуто в эпиграфе к этой главе. Они во все привносят движение, сотрясают застоялые, устаревшие догмы, преодолевая их с помощью большой силы убеждения и сознательно используя свою привлекательность. Они ничего не воспринимают серьезно, за исключением, быть может, самих себя, потому что "Я" для них - единственная реальность в жизни. Им свойственны сильные импульсы самоутверждения, и они более способны вносить в ситуацию динамическое начало, нежели терпеливо, планомерно и выносливо добиваться результата. Однако именно их нетерпеливость, их любопытство и неотягощенность прошлым иногда дают им шанс видеть и охватывать то, что недоступно другим, и тем самым расширять границы нашего познания и наших возможностей. Они смотрят на жизнь с отвагой и своенравием авантюристов, и смысл жизни для них заключается в том, чтобы она была богатой, интенсивной и изобильной.
Башляр:
Огонь и тепло дают ключ к пониманию самых разных вещей, потому что с ними связаны неизгладимые воспоминания, простейший и решающий опыт каждого человека. Огонь, таким образом, представляет собой исключительное явление, способное объяснить все. Если все постепенные изменения можно объяснить самой жизнью, то все стремительные перемены имеют причиной огонь, обладающий избытком жизни. Огонь - это нечто глубоко личное и универсальное. Он живет в сердце. Он живет в небесах. Он вырывается из глубин вещества наружу, как дар любви. Он прячется в недрах материи, тлея под спудом, как затаенная ненависть и жажда мести. Из всех явлений он один столь очевидно наделен свойством принимать противоположные значения - добра и зла. Огонь - это сияние Рая и пекло Преисподней, ласка и пытка. Это кухонный очаг и апокалипсис. Он доставляет радость ребенку, смирно сидящему у печи; но он же наказывает за непослушание того, кто затеет с ним слишком дерзкую игру. Он дает блаженство и требует почтительности. Это божество охраняющее и устрашающее, щедрое и свирепое. Огонь противоречив, и потому это одно из универсальных начал объяснения мира.
Огонь - сущность скорее общественная, нежели природная. Чтобы убедиться в обоснованности этого утверждения, нет необходимости рассуждать о роли огня в первобытном обществе или настаивать на технических трудностях поддержания огня; достаточно рассмотреть с точки зрения позитивной психологии структуру и формирование разума цивилизованного человека. Действительно, почтительное отношение к огню внушено воспитанием; оно не присуще нам от природы. Рефлекс, заставляющий отдернуть палец от пламени свечки, можно сказать, не играет никакой роли для познающего сознания. Приходится удивляться, что ему придают такое большое значение учебники по элементарной психологии, где он служит поводом для рассуждений о непременном присутствии некой рефлексии в рефлексе, знания - в простейшем ощущении. В действительности же первичны социальные запреты. Естественный опыт вторичен, и доставляемое им материальное доказательство неожиданно, а потому слишком неопределенно, чтобы стать основой объективного знания. Подтверждая социальный запрет, ожог, то есть естественный фактор торможения, только повышает интеллектуальный авторитет отца в глазах ребенка. Значит, детский опыт познания огня имеет в своей основе взаимоналожение природного и социального, где социальное почти всегда доминирует. Быть может, это станет яснее при сравнении укола и ожога. И то и другое вызывает рефлекс. Почему же острие не является, подобно огню, объектом почитания и страха? Именно потому, что социальные запреты в отношении острых предметов значительно слабее, чем запреты, касающиеся огня. На этом и базируется в действительности почтительное отношение к огню: стоит ребенку протянуть руку к пламени, и ему тут же достанется линейкой по пальцам от отца. Огонь причиняет боль - и для этого ему не обязательно обжигать. В каком бы обличье ни выступал огонь: будь то пламя или жар, лампа или печь, - родители никогда не теряют бдительности. Итак, огонь изначально подлежит всеобщему запрету; отсюда вывод: социальный запрет - это наше первое всеобщее знание об огне. Раньше всего мы узнаем об огне то, что его нельзя трогать. По мере того как ребенок взрослеет, запрет выражается в менее материальной форме: удар линейкой сменяется окриком, окрик рассказом об опасности пожара, легендами об огне небесном. Так природное явление быстро занимает свое место в сфере сложных и запутанных социальных знаний, что почти исключает непосредственный опыт.
Поскольку торможение вызвано в первую очередь социальным запретом, отсюда следует, что проблема личного познания огня есть проблема ловкого неповиновения. Стремясь подражать отцу, скрывшись подальше от его присмотра, сын - точь-в-точь маленький Прометей - крадет спички, убегает в поля и на дне оврага вместе с товарищами закладывает очаг детской вольницы.
Итак, мы предлагаем обозначить как комплекс Прометея совокупность побуждений, в силу которых мы стремимся сравняться в знаниях с нашими отцами, а затем превзойти их, достичь уровня учителей и превзойти его.
Огонь - сущность скорее общественная, нежели природная. Чтобы убедиться в обоснованности этого утверждения, нет необходимости рассуждать о роли огня в первобытном обществе или настаивать на технических трудностях поддержания огня; достаточно рассмотреть с точки зрения позитивной психологии структуру и формирование разума цивилизованного человека. Действительно, почтительное отношение к огню внушено воспитанием; оно не присуще нам от природы. Рефлекс, заставляющий отдернуть палец от пламени свечки, можно сказать, не играет никакой роли для познающего сознания. Приходится удивляться, что ему придают такое большое значение учебники по элементарной психологии, где он служит поводом для рассуждений о непременном присутствии некой рефлексии в рефлексе, знания - в простейшем ощущении. В действительности же первичны социальные запреты. Естественный опыт вторичен, и доставляемое им материальное доказательство неожиданно, а потому слишком неопределенно, чтобы стать основой объективного знания. Подтверждая социальный запрет, ожог, то есть естественный фактор торможения, только повышает интеллектуальный авторитет отца в глазах ребенка. Значит, детский опыт познания огня имеет в своей основе взаимоналожение природного и социального, где социальное почти всегда доминирует. Быть может, это станет яснее при сравнении укола и ожога. И то и другое вызывает рефлекс. Почему же острие не является, подобно огню, объектом почитания и страха? Именно потому, что социальные запреты в отношении острых предметов значительно слабее, чем запреты, касающиеся огня. На этом и базируется в действительности почтительное отношение к огню: стоит ребенку протянуть руку к пламени, и ему тут же достанется линейкой по пальцам от отца. Огонь причиняет боль - и для этого ему не обязательно обжигать. В каком бы обличье ни выступал огонь: будь то пламя или жар, лампа или печь, - родители никогда не теряют бдительности. Итак, огонь изначально подлежит всеобщему запрету; отсюда вывод: социальный запрет - это наше первое всеобщее знание об огне. Раньше всего мы узнаем об огне то, что его нельзя трогать. По мере того как ребенок взрослеет, запрет выражается в менее материальной форме: удар линейкой сменяется окриком, окрик рассказом об опасности пожара, легендами об огне небесном. Так природное явление быстро занимает свое место в сфере сложных и запутанных социальных знаний, что почти исключает непосредственный опыт.
Поскольку торможение вызвано в первую очередь социальным запретом, отсюда следует, что проблема личного познания огня есть проблема ловкого неповиновения. Стремясь подражать отцу, скрывшись подальше от его присмотра, сын - точь-в-точь маленький Прометей - крадет спички, убегает в поля и на дне оврага вместе с товарищами закладывает очаг детской вольницы.
Итак, мы предлагаем обозначить как комплекс Прометея совокупность побуждений, в силу которых мы стремимся сравняться в знаниях с нашими отцами, а затем превзойти их, достичь уровня учителей и превзойти его.
КОМПЛЕКС ПРОМЕТЕЯ
КОМПЛЕКС НОВАЛИСА
КОМПЛЕКС ПАНТАГРЮЭЛЯ
КОМПЛЕКС
ЭМПЕДОКЛА
ЭМПЕДОКЛА
комплекс Прометея совокупность побуждений, в силу которых мы стремимся сравняться в знаниях с нашими отцами, а затем превзойти их, достичь уровня учителей и превзойти его.
Такая мечта, поистине захватывающе-драматичная, расширяет горизонты человеческой судьбы, связывает малое с великим, очаг с вулканом, существование куска дерева с бытием целого мира. Зачарованный человек слышит зов огня. В разрушении ему видится нечто большее, чем просто изменение, - обновление.
Такого рода фантазия - весьма неординарное и все же достаточно общее явление - определяет настоящий комплекс: в нем слиты любовь к огню и его почитание, инстинкт жизни и инстинкт смерти. Можно лаконично обозначить его как комплекс Эмпедокла.
Такого рода фантазия - весьма неординарное и все же достаточно общее явление - определяет настоящий комплекс: в нем слиты любовь к огню и его почитание, инстинкт жизни и инстинкт смерти. Можно лаконично обозначить его как комплекс Эмпедокла.
Комплекс Новалиса как бы синтезирует импульс к возгоранию от трения и потребность разделить пламя. Этот импульс, как представляется, возвращает нас к первозданной подлинности доисторического завоевания огня. Комплекс Новалиса характеризуется сознанием внутреннего тепла, всегда преобладающим над чисто визуальным познанием света. Он основан на удовлетворении чувственной жажды тепла и глубинном сознании согревающего блаженства. Тепло - это благо, это некое достояние, которое нужно ревниво оберегать, дабы одарить им лишь одно избранное существо, признанное достойным того, чтобы слиться с ним воедино. Свет играет и смеется на поверхности вещей, но только тепло обладает способностью проникать внутрь.
КОМПЛЕКС
ГОФМАНА
ГОФМАНА
Мы увидим, как глубоко коренятся в бессознательном ценностные представления о питании огня и насколько желательно было бы провести психоанализ комплекса, характеризующего донаучное бессознательное, который можно назвать комплексом Пантагрюэля
Огонь доказывает свою человечность именно таким образом: он всегда дарит нам некое роскошное наслаждение, вроде десерта. Мало того, что он варит пищу: он выпекает хрустящую корочку. Он подрумянивает пирог. Он дает людям праздник. Приоритет гастрономических качеств еды над пищевыми известен с древнейших времен, и не в нужде, а в радости обрел человек разум. Стремление к избытку возбуждает дух сильнее, чем добывание необходимого. Человека создает желание, а не потребность.
Но мечтание у огня может принимать и более философскую направленность. Созерцатель огня видит в нем образ изменения - стремительного и наглядного. Огню не свойственно абстрактное однообразие водного потока; он растет и меняется быстрее, чем птенец в гнезде среди кустов, за которым наблюдаешь изо дня в день, - и потому он вызывает жажду перемен, желание ускорить время, подвести всю жизнь к завершению, к пределу потустороннего. Такая мечта, поистине захватывающе-драматичная, расширяет горизонты человеческой судьбы, связывает малое с великим, очаг с вулканом, существование куска дерева с бытием целого мира. Зачарованный человек слышит зов огня. В разрушении ему видится нечто большее, чем просто изменение, - обновление.
Такого рода фантазия - весьма неординарное и все же достаточно общее явление - определяет настоящий комплекс: в нем слиты любовь к огню и его почитание, инстинкт жизни и инстинкт смерти. Можно лаконично обозначить его как комплекс Эмпедокла.
Но мечтание у огня может принимать и более философскую направленность. Созерцатель огня видит в нем образ изменения - стремительного и наглядного. Огню не свойственно абстрактное однообразие водного потока; он растет и меняется быстрее, чем птенец в гнезде среди кустов, за которым наблюдаешь изо дня в день, - и потому он вызывает жажду перемен, желание ускорить время, подвести всю жизнь к завершению, к пределу потустороннего. Такая мечта, поистине захватывающе-драматичная, расширяет горизонты человеческой судьбы, связывает малое с великим, очаг с вулканом, существование куска дерева с бытием целого мира. Зачарованный человек слышит зов огня. В разрушении ему видится нечто большее, чем просто изменение, - обновление.
Такого рода фантазия - весьма неординарное и все же достаточно общее явление - определяет настоящий комплекс: в нем слиты любовь к огню и его почитание, инстинкт жизни и инстинкт смерти. Можно лаконично обозначить его как комплекс Эмпедокла.
Итак, достаточно погрузиться в грезы возле огня, глядя, как он скручивает такие хрупкие ветки березы, чтобы в воображении возникли вулкан и жертвенный костер. Соломинка, летящая в струе дыма, способна подтолкнуть нас навстречу судьбе! Можно ли найти более убедительное доказательство того, что созерцание огня обращает нас к самим истокам философской мысли? Если огонь - явление в сущности редкое, исключительное - был принят за один из основных элементов Вселенной, то не потому ли, что в нем - одно из начал мышления, ценнейший источник фантазии?
Эмпедокл, принося себя в жертву, он утверждает собственную силу, а не выдает свою слабость; это "зрелый муж, герой античного мифа, мудрый и уверенный в себе, для него добровольная смерть есть акт веры, доказательство силы его разума". Умирающий в огне, в отличие от других, умирает не в одиночку. Это поистине космическая смерть, когда вместе с мыслителем гибнет вся Вселенная. Костер - товарищ по переходу в иное качество.
Giova cio solo che non muоге, е solo Per noi non muore, cio che muor соn noi.
Лишь то хорошо, что не ведает смерти; для нас же Бессмертно одно: то, что умрет вместе с нами.
Эмпедокл, принося себя в жертву, он утверждает собственную силу, а не выдает свою слабость; это "зрелый муж, герой античного мифа, мудрый и уверенный в себе, для него добровольная смерть есть акт веры, доказательство силы его разума". Умирающий в огне, в отличие от других, умирает не в одиночку. Это поистине космическая смерть, когда вместе с мыслителем гибнет вся Вселенная. Костер - товарищ по переходу в иное качество.
Giova cio solo che non muоге, е solo Per noi non muore, cio che muor соn noi.
Лишь то хорошо, что не ведает смерти; для нас же Бессмертно одно: то, что умрет вместе с нами.
Комплекс Новалиса
Сегодня, когда мы не в состоянии обнаружить причину лесного пожара, мы предполагаем, что неизвестной нам причиной может быть трение. Но на самом деле мы вправе утверждать, что в природе такое явление никогда не наблюдалось. Даже если бы и наблюдалось, то при вполне наивном взгляде оно, вероятно, навело бы на мысль не о трении, а скорее об ударе: никакие видимые признаки не указывают на то, что воспламенению дерева предшествовал такой долгий подготовительный процесс, как трение. Итак, мы приходим к следующему критическому выводу: ни один из способов получения огня трением, используемых примитивными народами, не мог быть непосредственно подсказан наблюдением какого-либо природного явления.
Если рационально-объективное объяснение действительно не дает удовлетворительного понятия об открытии, совершенном примитивным разумом, то объяснение с позиций психоанализа, на первый взгляд сомнительное, в конечном итоге представляется, напротив, психологически правдоподобным.
Во-первых, следует признать, что трение - это опыт явно сексуального характера. Совсем нетрудно в этом убедиться, ознакомившись с психологическим материалом, обобщенным классическим психоанализом. Во-вторых, занявшись систематизацией показаний специализированного психоанализа теплотворных ощущений, мы удостоверимся в том, что объективная попытка добыть огонь трением подсказана глубоко интимным опытом. Во всяком случае, именно здесь видится кратчайший путь от феномена огня к его воспроизведению. Любовь была первой научной гипотезой объективного воспроизведения огня.
...наш тезис покажется не столь уж сомнительным, если отойти от прямолинейного утилитаризма и от предубеждения, будто первобытный человек постоянно терпел нужду и бедствия. Что бы нам ни говорили путешественники о беспечности аборигенов, мы все-таки не можем без содрогания думать о жизни людей в условиях пещерного века. Возможно, наш предок с большей благодарностью принимал наслаждения, полнее отдавался счастью, будучи, соответственно, менее чувствительным к страданию. Вероятно, блаженное тепло физической любви накладывало особый ценностный отпечаток на многие стороны первобытного опыта. Чтобы добыть огонь трением палочки о желобок сухого куска дерева, нужно время и терпение. Но, должно быть, такой труд доставлял удовольствие человеку, в фантазии которого безраздельно господствовала сексуальность. Возможно, именно предаваясь этому занятию, вкладывая в него всю свою нежность, он научился петь. Во всяком случае, это была несомненно ритмичная работа, и человек слышал в ней отклик ритму собственных действий - отклик, резонирующий великолепным многозвучием: движение руки, постукивание дерева, пение - все сливалось в общей гармонии, в динамичном ритмопорождающем единстве, все одушевлялось одной надеждой, устремлялось к достижению заранее известной ценности. Приступив к делу, человек почти сразу начинает испытывать объективное ощущение приятного тепла, и в то же время его согревает доставляемое работой чувство удовольствия. Эти ритмы поддерживают друг друга, они рождаются и не затухают благодаря взаимо- и самоиндукции. Приняв психологические принципы ритмоанализа г-на Пинейро дос Сантоса, по мнению которого временной реальностью обладает лишь то, что вибрирует, мы поймем: витальный динамизм, психическая гармония и составляют ценность этой ритмичной работы. Поистине, человек всем своим существом отдается радости. Не столько в страдании, сколько именно в этом празднестве первобытный человек обретает самосознание, и началом его является вера в себя.
Если рационально-объективное объяснение действительно не дает удовлетворительного понятия об открытии, совершенном примитивным разумом, то объяснение с позиций психоанализа, на первый взгляд сомнительное, в конечном итоге представляется, напротив, психологически правдоподобным.
Во-первых, следует признать, что трение - это опыт явно сексуального характера. Совсем нетрудно в этом убедиться, ознакомившись с психологическим материалом, обобщенным классическим психоанализом. Во-вторых, занявшись систематизацией показаний специализированного психоанализа теплотворных ощущений, мы удостоверимся в том, что объективная попытка добыть огонь трением подсказана глубоко интимным опытом. Во всяком случае, именно здесь видится кратчайший путь от феномена огня к его воспроизведению. Любовь была первой научной гипотезой объективного воспроизведения огня.
...наш тезис покажется не столь уж сомнительным, если отойти от прямолинейного утилитаризма и от предубеждения, будто первобытный человек постоянно терпел нужду и бедствия. Что бы нам ни говорили путешественники о беспечности аборигенов, мы все-таки не можем без содрогания думать о жизни людей в условиях пещерного века. Возможно, наш предок с большей благодарностью принимал наслаждения, полнее отдавался счастью, будучи, соответственно, менее чувствительным к страданию. Вероятно, блаженное тепло физической любви накладывало особый ценностный отпечаток на многие стороны первобытного опыта. Чтобы добыть огонь трением палочки о желобок сухого куска дерева, нужно время и терпение. Но, должно быть, такой труд доставлял удовольствие человеку, в фантазии которого безраздельно господствовала сексуальность. Возможно, именно предаваясь этому занятию, вкладывая в него всю свою нежность, он научился петь. Во всяком случае, это была несомненно ритмичная работа, и человек слышал в ней отклик ритму собственных действий - отклик, резонирующий великолепным многозвучием: движение руки, постукивание дерева, пение - все сливалось в общей гармонии, в динамичном ритмопорождающем единстве, все одушевлялось одной надеждой, устремлялось к достижению заранее известной ценности. Приступив к делу, человек почти сразу начинает испытывать объективное ощущение приятного тепла, и в то же время его согревает доставляемое работой чувство удовольствия. Эти ритмы поддерживают друг друга, они рождаются и не затухают благодаря взаимо- и самоиндукции. Приняв психологические принципы ритмоанализа г-на Пинейро дос Сантоса, по мнению которого временной реальностью обладает лишь то, что вибрирует, мы поймем: витальный динамизм, психическая гармония и составляют ценность этой ритмичной работы. Поистине, человек всем своим существом отдается радости. Не столько в страдании, сколько именно в этом празднестве первобытный человек обретает самосознание, и началом его является вера в себя.
Фрезер:
Получение огня трением всегда было окружено атмосферой праздника. Широко известные в Средние века, повсеместно распространенные среди примитивных народностей, праздники огня иногда воспроизводят первичный обряд: по-видимому, это свидетельствует о том, что рождение огня является исходным моментом его культа. Как говорит А. Мори, в Германии nothfeuer или nodfyr полагалось добывать трением двух кусков дерева. Шатобриан дает нам детальное описание праздника нового огня у натчезов. "В канун праздника гасят огонь, зажженный год назад. Перед рассветом жрец берет два куска сухого дерева и начинает медленно тереть их один
о другой, шепча заклинания. При появлении солнца его движения становятся более энергичными. Тогда Великий Жрец издает священный возглас, нагретое трением дерево вспыхивает, воспламеняя серный фитиль; колдун подносит его к тростниковым кольцам, и пламя по спирали взвивается вверх. На алтаре возжигают дубовую кору, после чего молодой огонь дает новое семя потухшим очагам деревни". Итак, этот праздник натчезов, в котором сливаются праздники Солнца и урожая, прежде всего оказывается праздником огненного семени. Для того чтобы семя огня полностью проявило свои свойства, необходимо завладеть им, едва только в нем затеплится жизнь, в момент первой вспышки огнепорождающего куска дерева. Таким образом, трение предстает методом природным. И опять-таки, природным его можно назвать, поскольку он был подсказан человеку его собственной природой. Поистине, мы открыли огонь в самих себе раньше, чем он был похищен с Небес.
Фрэзер приводит множество примеров того, как потешные огни зажигают с помощью трения. В частности, огни Бельтана в Шотландии зажигались по способу вынужденного, или необходимого, огня. "Этот огонь получали исключительно путем трения двух деревяшек одну о другую. Как только появлялись первые искры, к ним подносили быстро воспламеняющийся древесный гриб, растущий на старых березах. Такой огонь, по всей видимости, мог считаться спустившимся непосредственно с небес, и ему приписывались всевозможные качества. Верили, в частности, что он защищает людей и животных от всех худых болезней. . . " Возникает вопрос, какую "видимость" подразумевает Фрэзер, говоря, что вынужденный огонь спускается непосредственно с небес. Но в этом пункте, как нам кажется, проявляется неверная ориентация всей системы толкования Фрэзера. В самом деле, он строит объяснение, исходя из утилитарных мотивов. Так, потешные огни дают золу для удобрения льняных, пшеничных и ячменных полей. Этот первый довод содержит элемент своеобразной бессознательной рационализации, неправильно ориентирующей современного читателя, которого не приходится долго убеждать в полезности карбонатов и прочих химических удобрений. Но попробуем приблизиться к таинственному глубинному смыслу обычая. Золой от вынужденного огня не только удобряют землю, приносящую урожай, ее примешивают и к корму для того, чтобы тучнел скот. Иногда это делается в целях размножения скота. Так проясняется психологическая основа обычая. Идет ли речь об откорме скота или удобрении поля - за очевидной утилитарностью угадывается более глубинное устремление, а именно - мечта о плодородии в откровенно сексуальной форме. Пепел потешных огней оплодотворяет и животных, и поля потому, что он оплодотворяет женщин. Именно огонь любви, известный по опыту, положен в основу объективной индукции. Вновь объяснение с позиций утилитарности должно уступить место объяснению с точки зрения удовольствия, рациональная интерпретация - психоаналитической. Акцентируя, в соответствии с нашей установкой, ценность удовольствия, надо признать, что если огонь впоследствии оказыватся полезным, то процесс его разжигания приятен. Возможно, как и в любви, его начало приятнее, чем завершение. По крайней мере, испытанное блаженство зависит от самого стремления к блаженству. И если первобытный человек убежден, что потешный огонь - огонь первоначальный - обладает всевозможными свойствами, дарит силу и здоровье, то его убеждение основано на опыте блаженства, внутреннем ощущении силы, почти всесилия, пережитом в решающую минуту, когда огонь готов вспыхнуть и желание вот-вот будет удовлетворено.
о другой, шепча заклинания. При появлении солнца его движения становятся более энергичными. Тогда Великий Жрец издает священный возглас, нагретое трением дерево вспыхивает, воспламеняя серный фитиль; колдун подносит его к тростниковым кольцам, и пламя по спирали взвивается вверх. На алтаре возжигают дубовую кору, после чего молодой огонь дает новое семя потухшим очагам деревни". Итак, этот праздник натчезов, в котором сливаются праздники Солнца и урожая, прежде всего оказывается праздником огненного семени. Для того чтобы семя огня полностью проявило свои свойства, необходимо завладеть им, едва только в нем затеплится жизнь, в момент первой вспышки огнепорождающего куска дерева. Таким образом, трение предстает методом природным. И опять-таки, природным его можно назвать, поскольку он был подсказан человеку его собственной природой. Поистине, мы открыли огонь в самих себе раньше, чем он был похищен с Небес.
Фрэзер приводит множество примеров того, как потешные огни зажигают с помощью трения. В частности, огни Бельтана в Шотландии зажигались по способу вынужденного, или необходимого, огня. "Этот огонь получали исключительно путем трения двух деревяшек одну о другую. Как только появлялись первые искры, к ним подносили быстро воспламеняющийся древесный гриб, растущий на старых березах. Такой огонь, по всей видимости, мог считаться спустившимся непосредственно с небес, и ему приписывались всевозможные качества. Верили, в частности, что он защищает людей и животных от всех худых болезней. . . " Возникает вопрос, какую "видимость" подразумевает Фрэзер, говоря, что вынужденный огонь спускается непосредственно с небес. Но в этом пункте, как нам кажется, проявляется неверная ориентация всей системы толкования Фрэзера. В самом деле, он строит объяснение, исходя из утилитарных мотивов. Так, потешные огни дают золу для удобрения льняных, пшеничных и ячменных полей. Этот первый довод содержит элемент своеобразной бессознательной рационализации, неправильно ориентирующей современного читателя, которого не приходится долго убеждать в полезности карбонатов и прочих химических удобрений. Но попробуем приблизиться к таинственному глубинному смыслу обычая. Золой от вынужденного огня не только удобряют землю, приносящую урожай, ее примешивают и к корму для того, чтобы тучнел скот. Иногда это делается в целях размножения скота. Так проясняется психологическая основа обычая. Идет ли речь об откорме скота или удобрении поля - за очевидной утилитарностью угадывается более глубинное устремление, а именно - мечта о плодородии в откровенно сексуальной форме. Пепел потешных огней оплодотворяет и животных, и поля потому, что он оплодотворяет женщин. Именно огонь любви, известный по опыту, положен в основу объективной индукции. Вновь объяснение с позиций утилитарности должно уступить место объяснению с точки зрения удовольствия, рациональная интерпретация - психоаналитической. Акцентируя, в соответствии с нашей установкой, ценность удовольствия, надо признать, что если огонь впоследствии оказыватся полезным, то процесс его разжигания приятен. Возможно, как и в любви, его начало приятнее, чем завершение. По крайней мере, испытанное блаженство зависит от самого стремления к блаженству. И если первобытный человек убежден, что потешный огонь - огонь первоначальный - обладает всевозможными свойствами, дарит силу и здоровье, то его убеждение основано на опыте блаженства, внутреннем ощущении силы, почти всесилия, пережитом в решающую минуту, когда огонь готов вспыхнуть и желание вот-вот будет удовлетворено.
Например, почему нередко традиция требует, чтобы потешный огонь разжигали вместе юноша и девушка (с. 457)? или тот из жителей села, кто женился последним (с. 460)? По описанию Фрэзера, все молодые люди "прыгают через золу, чтобы урожай был богатым, или чтобы в будущем году удачно жениться или же чтобы избавиться от недомоганий". Разве не очевидно, что для молодежи из трех названных мотивов один является основным? Почему (с. 464) "самая юная новобрачная должна прыгнуть через костер"? Почему (с. 490) в Ирландии "говорят, что если девушка трижды перепрыгнет через костер в обоих направлениях, то она скоро выйдет замуж, будет счастлива и родит много детей"? Почему (с. 493) некоторые молодые люди "убеждены, что иванов огонь их не опалит"? Не основана ли эта столь странная уверенность на их собственном опыте, скорее интимном, чем объективном? А как бразильцы "берут в рот пылающие угли, не обжигаясь"? Какой первичный опыт мог внушить им такую смелость? Почему (с. 499) ирландцы проводят "животных, которые не давали приплода, сквозь огонь солнцестояния"? Не менее прозрачно и следующее поверье долины реки Лех: "Если молодожены перепрыгивают вдвоем через костер, даже не задев дыма, говорят, что в будущем году молодая не станет матерью, так как пламя не коснулось и не оплодотворило ее". Она показала, что у нее хватает ловкости играть с огнем, не обжигаясь. Фрэзер задается вопросом, можно ли усмотреть в последнем поверье связь со "сценами распутства, какому предаются эстонцы в день солнцестояния".
Вся поэзия Новалиса могла бы получить новую интерпретацию при рассмотрении ее с позиций психоанализа огня. Она выражает напряженное стремле ние пережить первобытное состояние. Сказка для Новалиса всегда в той или иной степени космогонична. Она современна порождающим друг друга душе и миру. По его словам, сказка - это "эра... свободы, первобытное состояние природы, эпоха, предшествующая Космосу". И тут в своей откровенной амбивалентности выступает божество трения, творец и огня, и любви.
Комплекс Новалиса как бы синтезирует импульс к возгоранию от трения и потребность разделить пламя. Этот импульс, как представляется, возвращает нас к первозданной подлинности доисторического завоевания огня. Комплекс Новалиса характеризуется сознанием внутреннего тепла, всегда преобладающим над чисто визуальным познанием света. Он основан на удовлетворении чувственной жажды тепла и глубинном сознании согревающего блаженства. Тепло - это благо, это некое достояние, которое нужно ревниво оберегать, дабы одарить им лишь одно избранное существо, признанное достойным того, чтобы слиться с ним воедино. Свет играет и смеется на поверхности вещей, но только тепло обладает способностью проникать внутрь.
Эта потребность углубления внутрь вещей, проникновения в глубь человеческого существа рождена интуитивным влечением к внутреннему теплу. Тепло способно проникнуть туда, куда не проникнет ни взгляд, ни рука. Это единение глубин, термическое сродство облекается Новалисом в символ сошествия в недра горы, в пещеру и рудник - туда, где тепло равномерно разлито, где оно растворено, словно очертания сна. Как точно заметил Нодье, всякое описание сошествия в ад имеет структуру сна. Новалис грезил жаром земной утробы, как иным снится блистательно-холодный небесный простор. Рудокоп для него - это "астролог наоборот"; Новалис живет скорее концентрированным теплом, нежели лучистым сиянием света.
Комплекс Новалиса как бы синтезирует импульс к возгоранию от трения и потребность разделить пламя. Этот импульс, как представляется, возвращает нас к первозданной подлинности доисторического завоевания огня. Комплекс Новалиса характеризуется сознанием внутреннего тепла, всегда преобладающим над чисто визуальным познанием света. Он основан на удовлетворении чувственной жажды тепла и глубинном сознании согревающего блаженства. Тепло - это благо, это некое достояние, которое нужно ревниво оберегать, дабы одарить им лишь одно избранное существо, признанное достойным того, чтобы слиться с ним воедино. Свет играет и смеется на поверхности вещей, но только тепло обладает способностью проникать внутрь.
Эта потребность углубления внутрь вещей, проникновения в глубь человеческого существа рождена интуитивным влечением к внутреннему теплу. Тепло способно проникнуть туда, куда не проникнет ни взгляд, ни рука. Это единение глубин, термическое сродство облекается Новалисом в символ сошествия в недра горы, в пещеру и рудник - туда, где тепло равномерно разлито, где оно растворено, словно очертания сна. Как точно заметил Нодье, всякое описание сошествия в ад имеет структуру сна. Новалис грезил жаром земной утробы, как иным снится блистательно-холодный небесный простор. Рудокоп для него - это "астролог наоборот"; Новалис живет скорее концентрированным теплом, нежели лучистым сиянием света.
Алхимия:
В нашей предыдущей работе сделана попытка показать, что алхимия насквозь проникнута не знающей границ сексуальной фантазией, мечтами о богатстве и омоложении, о могуществе. Здесь мы собираемся доказать, что это сексуальное мечтание есть род мечтания у очага. Можно было бы даже утверждать, что алхимия просто-напросто переносит в реальность сексуальную направленность мечтания у очага. Далекая от описания объективных феноменов, она представляет собой попытку вписать в центр всех вещей человеческую любовь.
Эти психоаналитические особенности алхимии замаскированы благодаря тому, что она легко принимает абстрактный характер. В самом деле, она работает с закрытым огнем, с огнем, заключенным в печь. Образы, щедро расточаемые пламенем и увлекающие фантазию в свободный полет, в этом случае оказываются усеченными и обесцвеченными, мечта приобретает более определенные контуры. Итак, взглянем на алхимика в его подземной лаборатории, возле печи.
Уже неоднократно отмечалось, что печам и ретортам нередко придавали форму явно сексуального характера. Некоторые авторы прямо на это указывают. Никола де Лок, "врач-спагирик Его Величества", в 1655 году писал: "Для беления, дигерирования, сгущения, как во время препарации и изготовления магистериев, [алхимики берут сосуд] в форме грудей или же тестикулов, с тем чтобы выработать в животном мужское и женское семя, и называют его пеликаном". Без сомнения, это символическое соответствие между различными алхимическими сосудами и частями человеческого тела, как мы показали в другой работе, имеет более общее значение. Но, быть может, именно в сексуальном аспекте такое соответствие особенно очевидно и убедительно. Огонь, закрытый в реторте сексуальной формы, заключен здесь в свой первоисточник: тогда он сохраняет полностью свою эффективность.
Естественно, что интимный мужской огонь в размышлениях одинокого мужчины наделяется наибольшей силой. Именно ему, в частности, приписывают способность "отворять тела". Анонимный автор начала XVIII века совершенно ясно говорит ой этом значении огня, заключенного в веществе. "Искусство, подражая Природе, отворяет тело посредством огня, но гораздо более сильного, чем Огонь огня закрытых огней". Сверхогонь - это прообраз сверхчеловека. И наоборот: иррациональный образ сверхчеловека как воплощение мечты об исключительно субъективной силе - ни что иное, как сверхогонь.
Это "отворение" тел, овладение ими изнутри, тотальное обладание иногда предстает как откровенный половой акт, совершаемый, как говорят некоторые алхимики, Членом Огня. Подобные образы и выражения, которыми изобилуют отдельные сочинения по алхимии, не оставляют никаких сомнений относительно смысла этого обладания.
Поскольку огонь так обманчив, так двойствен, психоанализ объективного познания непременно следует начинать с психоанализа интуитивных представлений об огне. Мы близки к уверенности, что именно огонь является первым объектом, первым феноменом, над которым стал рефлектировать человеческий разум. Среди всех явлений первобытный человек выделяет огонь как достойный объект жажды познания именно потому, что огонь сопутствует любовной жажде. Конечно, не раз говорилось, что завоевание огня окончательно отделило человека от животных, но, видимо, осталось незамеченным, что в созерцании огня изначально складывалась судьба разума, порождающего поэзию и науку. Homo faber это человек поверхности, его ум прикован к немногим известным предметам, к нескольким грубым геометрическим формам. Для него сфера не имеет центра, будучи попросту реализацией жеста, соединяющего две округленные ладони. Человек, мечтающий у очага, - это, напротив, человек углубления и становления. Или вернее, огонь преподает мечтателю урок глубины в становлении: пламя исходит изнутри ветвей. Отсюда интуитивная догадка Родена, без комментариев цитируемая Максом Шелером, вероятно, не обратившим внимания на ее отчетливо первобытный характер: "Всякая вещь есть лишь предел пламени, которому обязана она своим существованием". Глубокое прозрение Родена непонятно, если представлять себе лишь объективный огонь, огонь-разрушитель, не учитывая нашу концепцию интимного огня-созидателя, огня, в котором видится источник наших мыслей и грез, огня, отождествляемого с зародышем. Задумываясь над этой догадкой Родена, понимаешь, что он был в некотором роде скульптором глубины и, вопреки тому, что с необходимостью диктует ремесло, как бы распространял вовне внутренние качества, подобно прорастающей жизни, подобно огню.
Этот феномен, создаваемый огнем, в высшей степени чувствительный и в то же время прячущий печать огня глубоко в недрах вещества, должен получить имя: первый феномен, удостоенный внимания человека, есть пиромен. Рассмотрим теперь, каким образом пиромен, так глубоко понятый первобытным человеком, веками сбивал с толку ученых.
Эти психоаналитические особенности алхимии замаскированы благодаря тому, что она легко принимает абстрактный характер. В самом деле, она работает с закрытым огнем, с огнем, заключенным в печь. Образы, щедро расточаемые пламенем и увлекающие фантазию в свободный полет, в этом случае оказываются усеченными и обесцвеченными, мечта приобретает более определенные контуры. Итак, взглянем на алхимика в его подземной лаборатории, возле печи.
Уже неоднократно отмечалось, что печам и ретортам нередко придавали форму явно сексуального характера. Некоторые авторы прямо на это указывают. Никола де Лок, "врач-спагирик Его Величества", в 1655 году писал: "Для беления, дигерирования, сгущения, как во время препарации и изготовления магистериев, [алхимики берут сосуд] в форме грудей или же тестикулов, с тем чтобы выработать в животном мужское и женское семя, и называют его пеликаном". Без сомнения, это символическое соответствие между различными алхимическими сосудами и частями человеческого тела, как мы показали в другой работе, имеет более общее значение. Но, быть может, именно в сексуальном аспекте такое соответствие особенно очевидно и убедительно. Огонь, закрытый в реторте сексуальной формы, заключен здесь в свой первоисточник: тогда он сохраняет полностью свою эффективность.
Естественно, что интимный мужской огонь в размышлениях одинокого мужчины наделяется наибольшей силой. Именно ему, в частности, приписывают способность "отворять тела". Анонимный автор начала XVIII века совершенно ясно говорит ой этом значении огня, заключенного в веществе. "Искусство, подражая Природе, отворяет тело посредством огня, но гораздо более сильного, чем Огонь огня закрытых огней". Сверхогонь - это прообраз сверхчеловека. И наоборот: иррациональный образ сверхчеловека как воплощение мечты об исключительно субъективной силе - ни что иное, как сверхогонь.
Это "отворение" тел, овладение ими изнутри, тотальное обладание иногда предстает как откровенный половой акт, совершаемый, как говорят некоторые алхимики, Членом Огня. Подобные образы и выражения, которыми изобилуют отдельные сочинения по алхимии, не оставляют никаких сомнений относительно смысла этого обладания.
Поскольку огонь так обманчив, так двойствен, психоанализ объективного познания непременно следует начинать с психоанализа интуитивных представлений об огне. Мы близки к уверенности, что именно огонь является первым объектом, первым феноменом, над которым стал рефлектировать человеческий разум. Среди всех явлений первобытный человек выделяет огонь как достойный объект жажды познания именно потому, что огонь сопутствует любовной жажде. Конечно, не раз говорилось, что завоевание огня окончательно отделило человека от животных, но, видимо, осталось незамеченным, что в созерцании огня изначально складывалась судьба разума, порождающего поэзию и науку. Homo faber это человек поверхности, его ум прикован к немногим известным предметам, к нескольким грубым геометрическим формам. Для него сфера не имеет центра, будучи попросту реализацией жеста, соединяющего две округленные ладони. Человек, мечтающий у очага, - это, напротив, человек углубления и становления. Или вернее, огонь преподает мечтателю урок глубины в становлении: пламя исходит изнутри ветвей. Отсюда интуитивная догадка Родена, без комментариев цитируемая Максом Шелером, вероятно, не обратившим внимания на ее отчетливо первобытный характер: "Всякая вещь есть лишь предел пламени, которому обязана она своим существованием". Глубокое прозрение Родена непонятно, если представлять себе лишь объективный огонь, огонь-разрушитель, не учитывая нашу концепцию интимного огня-созидателя, огня, в котором видится источник наших мыслей и грез, огня, отождествляемого с зародышем. Задумываясь над этой догадкой Родена, понимаешь, что он был в некотором роде скульптором глубины и, вопреки тому, что с необходимостью диктует ремесло, как бы распространял вовне внутренние качества, подобно прорастающей жизни, подобно огню.
Этот феномен, создаваемый огнем, в высшей степени чувствительный и в то же время прячущий печать огня глубоко в недрах вещества, должен получить имя: первый феномен, удостоенный внимания человека, есть пиромен. Рассмотрим теперь, каким образом пиромен, так глубоко понятый первобытным человеком, веками сбивал с толку ученых.
Комплекс Пантагрюэля (Всежаждущий)
Возможно, именно мнение о том, что огонь питается, как живое существо, занимает самое важное место среди представлений об огне, сформировавшихся в нашем бессознательном. В современном понимании "подкормить огонь" - просто банальный синоним выражения "поддержать огонь", но слова имеют над нами больше власти, чем кажется, и иногда архаичное выражение заставляет вспомнить забытый образ.
Мы увидим, как глубоко коренятся в бессознательном ценностные представления о питании огня и насколько желательно было бы провести психоанализ комплекса, характеризующего донаучное бессознательное, который можно назвать комплексом Пантагрюэля. Принцип: все, что горит, должно получать pabulum ignis (кормовой огонь) - это действительно закон для донаучного мышления. Так, в космологии Средневековья и донаучной эпохи идея питания светил является чем-то вполне общепринятым. В частности, распространено мнение, будто функция земных испарений заключается в том, чтобы служить пищей для звезд. Испарениями питаются кометы. Кометы питают Солнце.
Приведем лишь несколько текстов, из относящихся к недалеким временам, чтобы ясно показать, насколько устойчив миф о пищеварении в объяснении материальных феноменов. В 1766 году Робине пишет: "Утверждалось с достаточной степенью правдоподобия, что светила питаются испарениями, исходящими от светонепроницаемых небесных тел, а естественную пищу последних составляет тот поток огненных частиц, который им постоянно посылают первые; что пятна на Солнце, которые заметно распространяются и с каждым днем все более темнеют, - это не что иное, как растущее в объеме скопление грубых паров, притягиваемых Солнцем; что те струйки пара, которые мы видим как бы воскуряющимися над ним, направлены, наоборот, к его поверхности и в конце концов оно поглотит такое большое количество разнородных веществ, что они не только его сплошь окутают и покроют плотным слоем, как утверждал Декарт, но и пропитают насквозь. Тогда оно погаснет, умрет, так сказать, перейдя от состояния свечения, означающего для нем жизнь, к состоянию светонепроницаемости, которое можно назвать по отношению к нему подлинной смертью. Так умирает пиявка, упившись кровью" . Как мы видим, здесь господствует пищеварительная интуиция: по мнению Робине, Король Солнце умрет от чревоугодия.
Мы увидим, как глубоко коренятся в бессознательном ценностные представления о питании огня и насколько желательно было бы провести психоанализ комплекса, характеризующего донаучное бессознательное, который можно назвать комплексом Пантагрюэля. Принцип: все, что горит, должно получать pabulum ignis (кормовой огонь) - это действительно закон для донаучного мышления. Так, в космологии Средневековья и донаучной эпохи идея питания светил является чем-то вполне общепринятым. В частности, распространено мнение, будто функция земных испарений заключается в том, чтобы служить пищей для звезд. Испарениями питаются кометы. Кометы питают Солнце.
Приведем лишь несколько текстов, из относящихся к недалеким временам, чтобы ясно показать, насколько устойчив миф о пищеварении в объяснении материальных феноменов. В 1766 году Робине пишет: "Утверждалось с достаточной степенью правдоподобия, что светила питаются испарениями, исходящими от светонепроницаемых небесных тел, а естественную пищу последних составляет тот поток огненных частиц, который им постоянно посылают первые; что пятна на Солнце, которые заметно распространяются и с каждым днем все более темнеют, - это не что иное, как растущее в объеме скопление грубых паров, притягиваемых Солнцем; что те струйки пара, которые мы видим как бы воскуряющимися над ним, направлены, наоборот, к его поверхности и в конце концов оно поглотит такое большое количество разнородных веществ, что они не только его сплошь окутают и покроют плотным слоем, как утверждал Декарт, но и пропитают насквозь. Тогда оно погаснет, умрет, так сказать, перейдя от состояния свечения, означающего для нем жизнь, к состоянию светонепроницаемости, которое можно назвать по отношению к нему подлинной смертью. Так умирает пиявка, упившись кровью" . Как мы видим, здесь господствует пищеварительная интуиция: по мнению Робине, Король Солнце умрет от чревоугодия.
Комплекс Гофмана
В результате антиалкогольной пропаганды, сводившей критику к лозунгам, с подобными экспериментами было покончено. Однако, на наш взгляд, нельзя отрицать тот факт, что целую область фантасмагорической литературы породило поэтическое вдохновение, возбужденное алкоголем.
Если верно наше представление об этой поляризации воображения, становится понятнее, почему такие, на первый взгляд, близкие личности, как Гофман и Эдгар По, обнаруживают в конечном счете глубочайшее несходство. И того и другого в их сверхчеловеческой, нечеловеческой работе - работе гениев - основательно подкреплял всесильный алкоголь. Однако же их алкоголизм явно различного свойства. Гофмановский алкоголь пламенеет; он отмечен чисто качественным, чисто мужским знаком огня. Алкоголь Эдгара По топит, приносит забвение и смерть; он отмечен чисто количественным, женским знаком воды. Гений Эдгара По связан со Спящими, мертвыми водами, с прудом, в котором отражается дом Эшеров. Он прислушивается к "шуму бурного потока", наблюдает за тем, как "влажный, мглистый опиумный пар беззвучно, капля за каплей стекается... во вселенский дол", а "озеро словно осознанно вкушает сон" ("Спящая", пер. Малларме). У него горы и города "погружаются навеки в безбрежную морскую пучину". Вблизи мрачных топей, омутов, прудов, "где обитают вампиры, в любом из мест, овеянных дурной славой, в любом из угрюмейших уголков" встречают его "воспоминания под саваном былого - восставшие из гроба тени,
Если верно наше представление об этой поляризации воображения, становится понятнее, почему такие, на первый взгляд, близкие личности, как Гофман и Эдгар По, обнаруживают в конечном счете глубочайшее несходство. И того и другого в их сверхчеловеческой, нечеловеческой работе - работе гениев - основательно подкреплял всесильный алкоголь. Однако же их алкоголизм явно различного свойства. Гофмановский алкоголь пламенеет; он отмечен чисто качественным, чисто мужским знаком огня. Алкоголь Эдгара По топит, приносит забвение и смерть; он отмечен чисто количественным, женским знаком воды. Гений Эдгара По связан со Спящими, мертвыми водами, с прудом, в котором отражается дом Эшеров. Он прислушивается к "шуму бурного потока", наблюдает за тем, как "влажный, мглистый опиумный пар беззвучно, капля за каплей стекается... во вселенский дол", а "озеро словно осознанно вкушает сон" ("Спящая", пер. Малларме). У него горы и города "погружаются навеки в безбрежную морскую пучину". Вблизи мрачных топей, омутов, прудов, "где обитают вампиры, в любом из мест, овеянных дурной славой, в любом из угрюмейших уголков" встречают его "воспоминания под саваном былого - восставшие из гроба тени,
Очищение
Тогда сжигавшее нас пламя вдруг обращается источником света. Страсть, внезапно настигшая нас, оказывается желанной. Любовь рождает семью. Огонь преобразуется в очаг. Нормализация, социализация, рационализация - в этих явлениях, обозначаемых столь тяжеловесными неологизмами, нередко усматривают признаки охлаждения чувств. Все это вызывает плоские насмешки у сторонников анархической, спонтанной любви, пышущей жаром первобытных инстинктов. Но тому, кто ищет одухотворенности, очищение приносит непостижимую радость, а сознание чистоты озаряет его непостижимым светом. Только через очищение нам дано диалектически осмыслить верность глубокой любви, не разрушая ее. Отвергая тяжелую массу вещества и огня, очищение чувства, однако, не сокращает, а расширяет спектр возможностей по сравнению с естественным влечением. Только в очищении любви приходит открытие нежной привязанности. Такая любовь индивидуализирует, позволяет сделать шаг от оригинальности к характеру. "Конечно, новая возлюбленная привлекает волшебным очарованием, - говорит Новалис. - Но страсть к неизведанному, неожиданному крайне опасна и гибельна". В любви, как нигде, стремление к постоянству должно одержать верх над жаждой приключений.
Перейдем сразу к основному пункту, где мы покажем, что возможны два полюса сублимации, и рассмотрим диалектику чистоты и нечистоты, в равной степени приписываемых огню.
Легко понять, что огонь иногда выступает в качестве символа греха и зла, - стоит лишь припомнить все сказанное о его сексуальном значении. Тогда всякая борьба с сексуальными побуждениями должна символически представляться как борьба с огнем. Без особого труда можно было бы собрать такие тексты, где явно выражен или подразумевается демонический характер огня. Описания ада в литературе, гравюры и картины, изображающие дьявола с огненным языком, дают повод для недвусмысленного психоаналитического толкования.
Возможно, к важнейшим причинам такой оценки огня относится его дезодорирующая способность. Во всяком случае, она дает одно из самых непосредственных доказательств очищения. Всевластное первичное свойство, запах навязывает нам свое присутствие либо исподтишка, либо с предельной назойливостью, поистине насильственно вторгаясь в наш интимный мир. Огонь все очищает, так как устраняет тошнотворные запахи.
Второе обоснование принципа очищения огнем, носящее в гораздо большей степени научный характер и потому гораздо менее убедительное с психологической точки зрения, заключается в том, что огонь отделяет одно вещество от другом и устраняет их нечистоту. Иначе говоря, испытание огнем дает веществу преимущество однородности, то есть чистоты. С плавлением и ковкой металлов связан определенный набор метафор, в совокупности тяготеющих к одному значению.
Наконец, с плавильным огнем следовало бы, несомненно, сопоставить тот огонь, с помощью которого земледелец очищает пашни. Такое очищение действительно считается глубоким. Огонь не только уничтожает сорняки, но и удобряет почву.
Перейдем сразу к основному пункту, где мы покажем, что возможны два полюса сублимации, и рассмотрим диалектику чистоты и нечистоты, в равной степени приписываемых огню.
Легко понять, что огонь иногда выступает в качестве символа греха и зла, - стоит лишь припомнить все сказанное о его сексуальном значении. Тогда всякая борьба с сексуальными побуждениями должна символически представляться как борьба с огнем. Без особого труда можно было бы собрать такие тексты, где явно выражен или подразумевается демонический характер огня. Описания ада в литературе, гравюры и картины, изображающие дьявола с огненным языком, дают повод для недвусмысленного психоаналитического толкования.
Возможно, к важнейшим причинам такой оценки огня относится его дезодорирующая способность. Во всяком случае, она дает одно из самых непосредственных доказательств очищения. Всевластное первичное свойство, запах навязывает нам свое присутствие либо исподтишка, либо с предельной назойливостью, поистине насильственно вторгаясь в наш интимный мир. Огонь все очищает, так как устраняет тошнотворные запахи.
Второе обоснование принципа очищения огнем, носящее в гораздо большей степени научный характер и потому гораздо менее убедительное с психологической точки зрения, заключается в том, что огонь отделяет одно вещество от другом и устраняет их нечистоту. Иначе говоря, испытание огнем дает веществу преимущество однородности, то есть чистоты. С плавлением и ковкой металлов связан определенный набор метафор, в совокупности тяготеющих к одному значению.
Наконец, с плавильным огнем следовало бы, несомненно, сопоставить тот огонь, с помощью которого земледелец очищает пашни. Такое очищение действительно считается глубоким. Огонь не только уничтожает сорняки, но и удобряет почву.
МОНОМИФ
ДЖ. КЕМПБЕЛЛА
ДЖ. КЕМПБЕЛЛА
ИНДИВИДУАЦИЯ
К.Г. ЮНГА
К.Г. ЮНГА
ИСХОД
ИЗМЕНЕНИЕ
СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ
МИМЕЗИС
ПОГЛОЩЕНИЕ
СИСТЕМОЙ
СИСТЕМОЙ
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ИНИЦИАЦИЯ
Рене Декарт (31 марта 1596 — 11 февраля 1650) — французский философ, математик и естествоиспытатель.
Он считается одним из основоположников философии Нового времени, создателем аналитической геометрии и одной из ключевых фигур научной революции.
Он считается одним из основоположников философии Нового времени, создателем аналитической геометрии и одной из ключевых фигур научной революции.
Арнольд Джозеф Тойнби (14 апреля 1889 года, Лондон — 22 октября 1975 года, Йорк) — британо-английский историк, социолог, философ истории и культуролог.
Наибольшую известность ему принёс его 12-томный труд «Постижение истории».
Наибольшую известность ему принёс его 12-томный труд «Постижение истории».
Импульс "Я", природный импульс воскресающей жизни первого весеннего знака Овна, - это абсолютная целостность, абсолютная самодостаточность, это сила и воля, которой ничего не может противостоять, даже смерть. В этом порыве единства, который содержит в себе все, рождается "мыслю" как источник радости на существование - как энергия, которая движет сама саму. В ней нет разделения на себя, и мир, и процесс мышления - а только процесс мышления: "я мыслю" в своей цельностью близко религиозному понятию триединства или вести Святого Духа. И вот этот вечный дух оказывается принадлежностью нашего сознания и нашего "Я"! - говоря философски, Декарт открыл онтологическое значение "Я". Разделив мир на субъект и объект, он приписал вечность субъекту.
Личное "Я" - последнее понятие мифологии и религии - становится первым понятием новой науки. Из единственной точки сознания Декарт воздвигает все здание своей философии, подобно тому как в мифологии импульс Огня рождает мир (напр., огненный зародыш посреди хаоса вод, отождествляемый в индийской философии с первочеловеком Праджапати).
Личное "Я" - последнее понятие мифологии и религии - становится первым понятием новой науки. Из единственной точки сознания Декарт воздвигает все здание своей философии, подобно тому как в мифологии импульс Огня рождает мир (напр., огненный зародыш посреди хаоса вод, отождествляемый в индийской философии с первочеловеком Праджапати).
ЛИЧНОСТИ, А НЕ ОБЩЕСТВА СОЗДАЮТ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ИСТОРИЮ
Духовно озаренная личность, очевидно, находится в таком же положении к человеческой природе, в каком цивилизация - к примитивному человеческому обществу"..
Для описания понятия личности Тойнби приводит типический образ мифологии - героя, воспитанного вне цивилизации или удаляющегося на природу, а затем возвращающегося в общество с новой идеей: неся прогрессивный ответ на вызов жизни и так сохраняющего общество от распада. О "Я" у Тойнби - совсем как у Декарта - активно заявляет та идея, которую личность сознательно проводит в жизнь.
Концепции вызова-и-ответа и ухода-и-возврата философа как нельзя лучше описывает архетип Овна. В основе развития личности, общества и культуры Тойнби видит стимул борьбы, зажигаюзий импульс действия.
Цивилизация существует благодаря постоянным усилиям человека. Она не умирает, пока на каждый вызов находят ответ. Нет никакого закона, который бы ограничивал ее существование и предопределил ей упадок. Жизнь также существует столько, сколько готова возрождаться вновь. Не существует ее предопределения к смерти (таков современный философский разворот астрологического закона падения Сатурна в Овне - планеты законов материи и судьбы. Овен отрицает значение материи - на то он и идеалист.
Духовно озаренная личность, очевидно, находится в таком же положении к человеческой природе, в каком цивилизация - к примитивному человеческому обществу"..
Для описания понятия личности Тойнби приводит типический образ мифологии - героя, воспитанного вне цивилизации или удаляющегося на природу, а затем возвращающегося в общество с новой идеей: неся прогрессивный ответ на вызов жизни и так сохраняющего общество от распада. О "Я" у Тойнби - совсем как у Декарта - активно заявляет та идея, которую личность сознательно проводит в жизнь.
Концепции вызова-и-ответа и ухода-и-возврата философа как нельзя лучше описывает архетип Овна. В основе развития личности, общества и культуры Тойнби видит стимул борьбы, зажигаюзий импульс действия.
Цивилизация существует благодаря постоянным усилиям человека. Она не умирает, пока на каждый вызов находят ответ. Нет никакого закона, который бы ограничивал ее существование и предопределил ей упадок. Жизнь также существует столько, сколько готова возрождаться вновь. Не существует ее предопределения к смерти (таков современный философский разворот астрологического закона падения Сатурна в Овне - планеты законов материи и судьбы. Овен отрицает значение материи - на то он и идеалист.
КРАСНЫЙ. ИСТОРИЯ ЦВЕТА
"В январе 49 года до нашей эры, когда Юлий Цезарь, преследуя Помпея, переправился через реку Рубикон (Rubico по-латыни, имя собственное, образованное от прилагательного ruber), он не только переправился через небольшую речку в Северной Италии, вода которой из-за особенностей местной почвы имела красноватый оттенок. Он еще - и это главное - пересек опасную "красную линию", некий запретный рубеж. В самом деле, Рубикон - естественная граница между собственно Италией и провинцией Цизальпийская Галлия; ни один полководец не имеет права переходить эту границу вместе со своей армией без разрешения Сената: это равносильно святотатству. Но Цезарь, не посчитавшись с запретом, проникает Италию и тем самым развязывает гражданскую войну, псоледствия которой окажут верьезное влияние на будущее Рима.
Во многих отношениях эта "красная линия", даже в большей степени символическая, чем географическая, решила судьбу Империи, и цвет воды Рубикона не только приобрел политическое измерение, но и стал поводом для поговорки. "Перейти Рубикон" означает нарушить запрет. Поставить всё на карту и положиться на волю Судьбы. "Жребий брошен", - будто бы сказал Цезарь, перейдя реку.
Красные воды Рубикона воскрешают в памяти образ, отсылающий к событию совсем иного рода, из более древней эпохи, - волны Красного моря, которые преодолели евреи при исходе из Египта, чтобы достигнуть Зкмли обетованной. Ведь и тут красный цвет имеет то же значение; он предстает нам как предупреждение об опасности и одновременно как предвестие нового начала, он придает происходящему особую важность и играет роль подлинного двигателя истории".
"В январе 49 года до нашей эры, когда Юлий Цезарь, преследуя Помпея, переправился через реку Рубикон (Rubico по-латыни, имя собственное, образованное от прилагательного ruber), он не только переправился через небольшую речку в Северной Италии, вода которой из-за особенностей местной почвы имела красноватый оттенок. Он еще - и это главное - пересек опасную "красную линию", некий запретный рубеж. В самом деле, Рубикон - естественная граница между собственно Италией и провинцией Цизальпийская Галлия; ни один полководец не имеет права переходить эту границу вместе со своей армией без разрешения Сената: это равносильно святотатству. Но Цезарь, не посчитавшись с запретом, проникает Италию и тем самым развязывает гражданскую войну, псоледствия которой окажут верьезное влияние на будущее Рима.
Во многих отношениях эта "красная линия", даже в большей степени символическая, чем географическая, решила судьбу Империи, и цвет воды Рубикона не только приобрел политическое измерение, но и стал поводом для поговорки. "Перейти Рубикон" означает нарушить запрет. Поставить всё на карту и положиться на волю Судьбы. "Жребий брошен", - будто бы сказал Цезарь, перейдя реку.
Красные воды Рубикона воскрешают в памяти образ, отсылающий к событию совсем иного рода, из более древней эпохи, - волны Красного моря, которые преодолели евреи при исходе из Египта, чтобы достигнуть Зкмли обетованной. Ведь и тут красный цвет имеет то же значение; он предстает нам как предупреждение об опасности и одновременно как предвестие нового начала, он придает происходящему особую важность и играет роль подлинного двигателя истории".
В возрождении заново - смысл борьбы. Для немецкого социолога Манхейма именно столкновение интересов разных социальных групп развивает общественную мысль. Для французского социолога Дюркгейма, в основе социальных процессов - борьба индивида и общества. Но, конечно, наиболее радикально эту посылку выразил классик Гоббс в известной фразе: "Человек человеку волк". Если взять эту фразу в ее позитивном аспекте, мы увидим в ней провозглашение той же абсолютной самостоятельности и независимости личного "Я", которое получает онтологический статус, как у Декарта, или трансцендентный, как у Мунье. Огонь движения человечества, энергию его жизни рождает трение всех личностей между собой..Стимул жить проявляется в их столкновении с независимыми от них условиями, которые личности могут победить силой своей мысли - так как в ней содержится всё, как и в их "Я".
ПРИБЕГАЯ К САМОМУ КРАЙНЕМУ УСИЛИЮ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЕБЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВНЕШНИХ ТЕЛ, МЫ ДОСТИГАЕМ ЛИШЬ ТОГО, ЧТО СОЗЕРЦАЕМ НАШИ СОБСТВЕННЫЕ ИДЕИ
Наше восприятие каждой вещи разлагается без остатка на восприятие суммы ощущений или идей. И Беркли считал, что от отрицания материи "люди не потерпят никакого вреда, так как они никогда не испытывают в ней нужды". Хотя Беркли не отрицает существования вещей: если бы все люди и их идеи исчезли, вещи продолжали бы существовать как сумма идей в уме Бога.
Беркли признавал онтологический статус духовного бытия, где существуют идеи и души. Идеи сами по себе пассивны - и вещи не являются причиной наших ощущений: они не могут нас заставить их воспринимать, воспринимающие души - деятельны. Причина идей есть нетелесная деятельная субстанция или дух.
Наше восприятие каждой вещи разлагается без остатка на восприятие суммы ощущений или идей. И Беркли считал, что от отрицания материи "люди не потерпят никакого вреда, так как они никогда не испытывают в ней нужды". Хотя Беркли не отрицает существования вещей: если бы все люди и их идеи исчезли, вещи продолжали бы существовать как сумма идей в уме Бога.
Беркли признавал онтологический статус духовного бытия, где существуют идеи и души. Идеи сами по себе пассивны - и вещи не являются причиной наших ощущений: они не могут нас заставить их воспринимать, воспринимающие души - деятельны. Причина идей есть нетелесная деятельная субстанция или дух.
Вслед за Декартом Гуссерль считал, что для познания мира необходимо и достаточно исследование самого "чистого сознания", предлагая "вынести бытие за скобки":
"Сознание обладает самобытием, и подобное выключение не затрагивает егоабсолютной внутренней сущности.., оно остается, таким образом, чистым сознанием".
Чистая структура сознания, свободная от индивидуальных, эмпирических характеристик, получает у Гуссерля наименование "интенциональности", что подразумевает марсианско-огненную активность - стремление, намерение, движение, волю.
"Сознание обладает самобытием, и подобное выключение не затрагивает егоабсолютной внутренней сущности.., оно остается, таким образом, чистым сознанием".
Чистая структура сознания, свободная от индивидуальных, эмпирических характеристик, получает у Гуссерля наименование "интенциональности", что подразумевает марсианско-огненную активность - стремление, намерение, движение, волю.
СOGITO ERGO SUM
Карл Маннгейм (27 марта 1893 — 9 января 1947) — английский социолог и философ австрийского происхождения, один из основоположников направления социологии знания.
Утопическое мышление стремится изменить текущий общественный порядок, в то время как идеологическое мышление стремится его сохранить
Утопическое мышление стремится изменить текущий общественный порядок, в то время как идеологическое мышление стремится его сохранить
Томас Гоббс (5 апреля 1588 года — 4 декабря 1679 года) — английский философ, один из основателей современной политической философии, теории общественного договора и теории государственного суверенитета.
Эмманюэль Мунье (1 апреля 1905 — 22 марта 1950) — французский философ-персоналист.
Эмиль Дюркгейм (15 апреля 1858 — 15 ноября 1917) — французский социолог и философ, основатель французской социологической школы и предшественник структурно-функционального анализа.
Дюркгейм ввёл в научный оборот ряд популярных ныне терминов, в частности, «коллективное сознание»
Дюркгейм ввёл в научный оборот ряд популярных ныне терминов, в частности, «коллективное сознание»
Мишель Пастуро (род. 17 июня 1947, Париж) — французский историк-медиевист, геральдист, специалист по сфрагистике и нумизмат.
Джордж Беркли (1685 - 1753)
Англо-ирландский философ, епископ. В истории философии наиболее известен как основоположник теории субъективного идеализма («имматериализма»), отрицающей существование материальной субстанции и утверждающей, что привычные объекты, такие как столы и стулья, являются идеями, воспринимаемыми разумом, и, как следствие, не могут существовать без восприятия.
Англо-ирландский философ, епископ. В истории философии наиболее известен как основоположник теории субъективного идеализма («имматериализма»), отрицающей существование материальной субстанции и утверждающей, что привычные объекты, такие как столы и стулья, являются идеями, воспринимаемыми разумом, и, как следствие, не могут существовать без восприятия.
Эдмунд Густав Альбрехт Гуссерль (8 апреля 1859 — 27 апреля 1938) — немецкий философ, основатель феноменологии.
Людвиг Андреас Фейербах (28.07.1804 — 13.09.1872) — немецкий философ. Фейербах обосновал антропологический материализм, который является итогом развития новоевропейской мысли, опирающейся на опытное естествознание. Антропологическая концепция Фейербаха оказала сильное воздействие на формирование мировоззрения К. Маркса и Ф. Энгельса
Николай Гаврилович Чернышевский (1828–1889) — русский прозаик, журналист и литературный критик, мыслитель-социалист и теоретик революционного движения, один из самых известных политзаключённых дореволюционной России.
В 1862 году Николая Чернышевского арестовали и посадили в одиночную камеру Петропавловской крепости. Именно здесь, в заключении, Николай Гаврилович написал свой знаменитый роман «Что делать?»
В 1862 году Николая Чернышевского арестовали и посадили в одиночную камеру Петропавловской крепости. Именно здесь, в заключении, Николай Гаврилович написал свой знаменитый роман «Что делать?»
Тайна теологии - в антропологии. Истина - не в мышлении и не в знании. Истина - в полноте человеческой жизни и существа.
"Я понимаю над эгоизмом любовь человека к самому себе, то есть к человеческому существу; я понимаю под эгоизмом любовь к себе подобным индивидуумам - потому что я могу любить лишь то, что отвечает моему идеалу, моему чувству, моему существу".
"К чему сводится мой принцип? К Я и другому Я, к "эгоизму" и "коммунизму", ибо то и другое друг с другом связаны, как голова и сердце. Без эгоизма у тебя не будет головы, без коммунизма - сердца.." (см. ниже Чернышевский)
Антропоцентризм и материя: "Человек должен вести свое происхождение не от неба, а от земли, не от Бога, а от природы, должен ничинать свою жизнь и мышление вместе с природой... Природа есть причина себя самой, существо самостоятельное, объяснимое лишь из себя и проихводимое из себя". Организм человека един и целостен так, как едина и целостна Вселенная. Микрокосм равен Макрокосму. Но человек превосходит природу тем, что может все изменить: саму природу делая совершенной. Так Микрокосм превосходит Макрокосм.
Человек - "живое существо, превосходящее себя и мир" (Макс Шеллер)
"Я понимаю над эгоизмом любовь человека к самому себе, то есть к человеческому существу; я понимаю под эгоизмом любовь к себе подобным индивидуумам - потому что я могу любить лишь то, что отвечает моему идеалу, моему чувству, моему существу".
"К чему сводится мой принцип? К Я и другому Я, к "эгоизму" и "коммунизму", ибо то и другое друг с другом связаны, как голова и сердце. Без эгоизма у тебя не будет головы, без коммунизма - сердца.." (см. ниже Чернышевский)
Антропоцентризм и материя: "Человек должен вести свое происхождение не от неба, а от земли, не от Бога, а от природы, должен ничинать свою жизнь и мышление вместе с природой... Природа есть причина себя самой, существо самостоятельное, объяснимое лишь из себя и проихводимое из себя". Организм человека един и целостен так, как едина и целостна Вселенная. Микрокосм равен Макрокосму. Но человек превосходит природу тем, что может все изменить: саму природу делая совершенной. Так Микрокосм превосходит Макрокосм.
Человек - "живое существо, превосходящее себя и мир" (Макс Шеллер)
Теория "Разумного эгоизма"
Чернышевский в книге "Что делать" ищет пути того, как личность может более творчески и полноценно проявлять себя, даже среди, казалось бы, сковывающих ее социальных ограничений. Надо заметить, что и Чернышевский, и Юнг, конечно, и своей собственной жизнью воплощали неформальный и творческий подход к стоящим перед ними проблемами (хотя первому это стоило тюрьмы, а второму - разрыву с учителем Фрейдом).
Способность знака Льва идти своим, героическим, путем: данная ему от природы опора на собственную индивидуальность - как раз и указывают на высокое достоинство человека, позволяют раскрыть его высшее предназначение и явить триумф жизни, возвысившейся над своей животно-природной основой - за счет человеческого разума.
Кассипеп, Фейербах или Чернышевский утверждают приоритет разума человека над его импульсивной волей, слепым желанием, неосознанной природой. Разум - человеческая способность увидеть более высокий уровень и цель бытия и запечатлеть их в мифе и символе, формирующим основы культуры. Именно этот творческий разум уподобляет человека Богу.
Чернышевский в книге "Что делать" ищет пути того, как личность может более творчески и полноценно проявлять себя, даже среди, казалось бы, сковывающих ее социальных ограничений. Надо заметить, что и Чернышевский, и Юнг, конечно, и своей собственной жизнью воплощали неформальный и творческий подход к стоящим перед ними проблемами (хотя первому это стоило тюрьмы, а второму - разрыву с учителем Фрейдом).
Способность знака Льва идти своим, героическим, путем: данная ему от природы опора на собственную индивидуальность - как раз и указывают на высокое достоинство человека, позволяют раскрыть его высшее предназначение и явить триумф жизни, возвысившейся над своей животно-природной основой - за счет человеческого разума.
Кассипеп, Фейербах или Чернышевский утверждают приоритет разума человека над его импульсивной волей, слепым желанием, неосознанной природой. Разум - человеческая способность увидеть более высокий уровень и цель бытия и запечатлеть их в мифе и символе, формирующим основы культуры. Именно этот творческий разум уподобляет человека Богу.
Кассирер определяет человека ка "животное, создающее символы": "Разум - очень неадекватный термин для всеохватывающего обозначения форм человеческой культурной жизни во всем ее богатстве и разнообразии. НОо все эти формы чуть символические формы. Вместо того чтобы определять человека как animal rationale, мы должны определить его как animal symbolicum. Именно так мы можем обозначить его специфическое отличие и понять новый путь, открытый человеку - путь цивилизации".
"Все, что приходит к человеку извне, ничтожно и пусто. Его сущность не зависит от внешних обстоятельств - она зависит исключительно от того, как он оценивает самого себя".
"Человек доказал присущую ему способность критической мысли, суждения, различения, поняв, что ведущая сторона в этом различении - "Я", а не Универсум. Я, однажды обретшее свою внутреннюю форму, сохраняет эту форму в неизменности и невозмутимости".
"Сама жизнь неустойчива и переменчива, но истинная ценность пребудет в вечном порядке, не допускающем перемен. И отнюдь не чувствами, но только силой нашего суждения мы можем постичь этот порядок. Сила суждения - основная сила человека, общий источник истины и морали. Ибо только в этом человек зависит от самого себя, здесь он свободен, автономен, самодостаточен".
"Все, что приходит к человеку извне, ничтожно и пусто. Его сущность не зависит от внешних обстоятельств - она зависит исключительно от того, как он оценивает самого себя".
"Человек доказал присущую ему способность критической мысли, суждения, различения, поняв, что ведущая сторона в этом различении - "Я", а не Универсум. Я, однажды обретшее свою внутреннюю форму, сохраняет эту форму в неизменности и невозмутимости".
"Сама жизнь неустойчива и переменчива, но истинная ценность пребудет в вечном порядке, не допускающем перемен. И отнюдь не чувствами, но только силой нашего суждения мы можем постичь этот порядок. Сила суждения - основная сила человека, общий источник истины и морали. Ибо только в этом человек зависит от самого себя, здесь он свободен, автономен, самодостаточен".
Поскольку в центре философии Льва - человек, основная сфера его философского творчества - антропология. А также история, мифология, культурология и психология, описывающие индивидуальные и коллективные возможности людей; и религия в том плане, в каком она способствует раскрытию душевной и духовной полноты человека, его индивидуальности и его потенциала к коллективному движению. Лев - знак развития индивидуальных талантов на основе достигнутого уровня культуры. Исключением не являются такие Львы, как Шри Ауробиндо и Елена Блаватская: целью обоих был всеохват прежней религиозной традиции в применении к индивидуальным возможностям человека. К культурным традициям религии и оккультизма обращался и Юнг: в собственной жизни прослеживая действие релишиозных символов и общемирового синхронизма мыслей и поступков людей.
В созидании своего собственного мира материи, в преображении существующей действительности, человек может сказать "нет" устроенному бытию. Способность опираться не только на совершенство бытия, но и на само становление - дклает образ центра личности, ядра индивидуальности и Человека как средоточия Вселенной насквозь прозрачным, трансцендентным - что не мешает ему оставаться центром, смыслом и целью. Шеллер так говорит об этом понимании антропоцентризма: " В тот самый момент, когда становящийся человек разрушил свойственные всей предществующей ему животной жизни методы приспособления к окружающей среде и избрал противоположный путь: путь приспособления открытого мира к себе и своей ставшей органически стабильной жизни; в тот самый момент, когда человек поставил себя вне природы, чтобы сделать ее предметом своего господства и нового - художественного и знакового принципа - он должен был как-то укоренить свой центр вне и по ту сторону мира."
В созидании своего собственного мира материи, в преображении существующей действительности, человек может сказать "нет" устроенному бытию. Способность опираться не только на совершенство бытия, но и на само становление - дклает образ центра личности, ядра индивидуальности и Человека как средоточия Вселенной насквозь прозрачным, трансцендентным - что не мешает ему оставаться центром, смыслом и целью. Шеллер так говорит об этом понимании антропоцентризма: " В тот самый момент, когда становящийся человек разрушил свойственные всей предществующей ему животной жизни методы приспособления к окружающей среде и избрал противоположный путь: путь приспособления открытого мира к себе и своей ставшей органически стабильной жизни; в тот самый момент, когда человек поставил себя вне природы, чтобы сделать ее предметом своего господства и нового - художественного и знакового принципа - он должен был как-то укоренить свой центр вне и по ту сторону мира."
Кассирер называет символ ключем к пониманию природы человека. Он опирается на биологическое многообразие жизни: каждый вид, каждый организм представляет обособленную монаду. У него есть свой собственный мир, поскольку имеется свой собственный опыт. Явления, которые мы обнаруживаем в жизни некоторых видов, не могут быть перенесены ни в какие другие. Какова же особенность человеческого вида?
"У человека между системой рецепторов и эффекторов, которые есть у животных есть, есть третье звено, которое можно назвать символической системой. Это новое приобретение преобразило всю человеческую жизнь. По сравнению с другими животными человек не просто живет в более широкой реальности - он живет как бы в новом измерении реальности.
С помощью символической системы разум организует мир вокруг себя: "Человек отныне живет не только в физическом, но и в символическом универсуме. Язык, миф, искусство, религия - части этого универсума, то есть разные нити, из которых сплетается символическая сеть, сложная ткань человеческого опыта. Весь человеческий прогресс в мышлении и опыте утончает и одновременно укрпляет эту сеть".
Правда, это имеет и обратную сторону медали: "Вместо того чтобы обратиться к самим вещам, человек постоянно обращен на самого себя. Он настолько погружен в лингвистические формы, художественные образы, мифические символы или релишиозные ритуалы, что не может ничего видеть и знать без вмешательства этого искусственного посредника. Даже в практической сфере человек не может жить в мире строгих фактов или сообразно со своими непосредственными желаниями и потребностями. Он живет скорее среди воображаемых эмоций, в надеждах и страхах, среди иллюзий и утрат, среди собственных фантазий и грез".
"У человека между системой рецепторов и эффекторов, которые есть у животных есть, есть третье звено, которое можно назвать символической системой. Это новое приобретение преобразило всю человеческую жизнь. По сравнению с другими животными человек не просто живет в более широкой реальности - он живет как бы в новом измерении реальности.
С помощью символической системы разум организует мир вокруг себя: "Человек отныне живет не только в физическом, но и в символическом универсуме. Язык, миф, искусство, религия - части этого универсума, то есть разные нити, из которых сплетается символическая сеть, сложная ткань человеческого опыта. Весь человеческий прогресс в мышлении и опыте утончает и одновременно укрпляет эту сеть".
Правда, это имеет и обратную сторону медали: "Вместо того чтобы обратиться к самим вещам, человек постоянно обращен на самого себя. Он настолько погружен в лингвистические формы, художественные образы, мифические символы или релишиозные ритуалы, что не может ничего видеть и знать без вмешательства этого искусственного посредника. Даже в практической сфере человек не может жить в мире строгих фактов или сообразно со своими непосредственными желаниями и потребностями. Он живет скорее среди воображаемых эмоций, в надеждах и страхах, среди иллюзий и утрат, среди собственных фантазий и грез".
ЧЕЛОВЕК! НЕ ЗАБЫВАЙ БОЛЕЕ О СВОЕМ ВЫСОКОМ НАЗНАЧЕНИИ. ЭТО ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕБЕ ТОТ, КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ ТВОЕ ДОСТОИНСТВО, ВЕДЬ КАЖДЫЙ ЧАС ЕГО СЕРДЦЕ ПРЕИСПОЛНЯЕТСЯ ПОЧЕТНОЙ ГОРДОСТЬЮ ЗА ТЕБЯ.
Наше восприятие каждой вещи разлагается без остатка на восприятие суммы ощущений или идей. И Беркли считал, что от отрицания материи "люди не потерпят никакого вреда, так как они никогда не испытывают в ней нужды". Хотя Беркли не отрицает существования вещей: если бы все люди и их идеи исчезли, вещи продолжали бы существовать как сумма идей в уме Бога.
Беркли признавал онтологический статус духовного бытия, где существуют идеи и души. Идеи сами по себе пассивны - и вещи не являются причиной наших ощущений: они не могут нас заставить их воспринимать, воспринимающие души - деятельны. Причина идей есть нетелесная деятельная субстанция или дух.
Наше восприятие каждой вещи разлагается без остатка на восприятие суммы ощущений или идей. И Беркли считал, что от отрицания материи "люди не потерпят никакого вреда, так как они никогда не испытывают в ней нужды". Хотя Беркли не отрицает существования вещей: если бы все люди и их идеи исчезли, вещи продолжали бы существовать как сумма идей в уме Бога.
Беркли признавал онтологический статус духовного бытия, где существуют идеи и души. Идеи сами по себе пассивны - и вещи не являются причиной наших ощущений: они не могут нас заставить их воспринимать, воспринимающие души - деятельны. Причина идей есть нетелесная деятельная субстанция или дух.
В самореализации человека видит задачу человека Юнг: для обозначения процесса достижения цельности и полноты личности он вводит понятие "индивидуации". Индивидуация = переход от жизни, ограниченной исполнением некой социальной роли, к более самосознательному существованию, когда прежние стандарты, воспринятые из общества или от родителей, перестают удовлетворять человека. Отвергая формальное рациональное здравомыслие, он обращается к глубинам подсознания: души, где скрыты корни его индивидуальности. Интегрируя содержание внутреннего и внешнего опыта, человек обретает новый личностный центр, на который опирается теперь так же, как прежде - на социальные стандарты. И новая личность, родившаяся в нем на основе жизни его души, делает его существование творчески наполненным и полноценным. Личность обретает свой собственный центр - самость.
ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ БОГ
Шри Ауробиндо (Ауробиндо Акройд Гхош) — бенгальский историк, индоевропеист, индолог, ведолог, эпосовед, социолог, культуролог, переводчик, философ, поэт, йогин, политик.высшего национального образования Республики Индия (Бхарат). Революционер, один из наиболее радикальных лидеров национального движения за свободу Индии.
Основатель интегральной йоги и Ашрама Шри Ауробиндо в Пондичерри.
Основатель интегральной йоги и Ашрама Шри Ауробиндо в Пондичерри.
Елена Петровна Блаватская (урождённая фон Ган) — русский религиозный философ теософского (пантеистического) направления, литератор, публицист, оккультист и спиритуалист, путешественница.
Блаватская объявила себя избранницей некоего «великого духовного начала», а также ученицей (челой) братства тибетских махатм, которых она именовала «хранителями сокровенных знаний», и начала проповедовать авторскую версию теософии.
В 1875 году в Нью-Йорке вместе с полковником Г. С. Олкоттом и адвокатом У. К. Джаджем основала Теософское общество, которое поставило перед собой задачу изучать все без исключения философские и религиозные учения с целью выявления в них истины.
Блаватская объявила себя избранницей некоего «великого духовного начала», а также ученицей (челой) братства тибетских махатм, которых она именовала «хранителями сокровенных знаний», и начала проповедовать авторскую версию теософии.
В 1875 году в Нью-Йорке вместе с полковником Г. С. Олкоттом и адвокатом У. К. Джаджем основала Теософское общество, которое поставило перед собой задачу изучать все без исключения философские и религиозные учения с целью выявления в них истины.
Эрнст Кассирер (28.07.1874, Бреслау, ныне Вроцлав, Польша — 13.04.1945, Принстон, США) — немецкий философ, представитель марбургской школы неокантианства.
Макс Шелер (22.08.1874, Мюнхен — 19.05.1928, Франкфурт-на-Майне) — немецкий философ, представитель феноменологии, один из основоположников феноменологической аксиологии, социологии знания и философской антропологии как самостоятельных дисциплин.
Перси Биши Шелли (4 августа 1792 — 8 июля 1822) — английский писатель, поэт и эссеист. Один из классиков британского романтизма.
Был женат на Мэри Шелли, написавшей готический роман под названием «Франкенштейн, или Современный Прометей»
Был женат на Мэри Шелли, написавшей готический роман под названием «Франкенштейн, или Современный Прометей»
Карл Густав Юнг (26 июля 1875 — 6 июня 1961) — швейцарский психолог и психиатр, философ и культуролог, педагог, основоположник аналитической психологии.
Пер Факснельд — историк религии из Стокгольмского университета, специализирующийся на западном эзотеризме, «альтернативной духовности» и новых религиозных течениях.
Инфернальный феминизм - дискурсивная стратегия конца XVIII - начала XX вв., отражает весь спектр радикализма и переплетается с главными антиклерикальными, левофланговыми, художественными и эзотерическими течениями своего времени. Продвигался людьми, занимавшими более или менее центральные места в культурной истории Запада: это Блейк и Бакунин, Блаватская и Байрон, Перси Шелли, Прудон...
Настоящий инфернальный феминизм зарождается вскоре после того, как в мировой истории определенно заявил о себе сам сатанизм (в широком смысле). Перси Биши Шелли, сыгравший главную роль в сотворении литературного сатанизма, был феминистом. В "Возмущении Ислама" (1818) он объединил обва течения. Воодушевленная сатанинским началом революционерка, действующая в этой поэме, провозглашает, что раскрепощение женщины - необходимое условие для истинного освобождения всего человечества. Менее открытые шаги в ту же сторону сделал лорд Байрон в драме "Небо и земля" (1821), где мятежные ангелы (изображенные в довольно выигрышном свете - в отличие от мстительного и жестокого Бога) предлагают женщинам бежать от нежеланного брака со смертными мужчинами. Другим главным представителем литературного сатанизма был Шарль Бодлер. В некоторых его стихотворениях из сборника "Цветы зла" (1857) выражалось сочувствие к демоническим лесбиянкам, которое вполне можно истолковать как солидаризацию с инфернальной женственностью - в противовес Богу как мужчине-угнетателю. Примерно то же самое можно было бы сказать и о Алджероне Суинберне и его гимнах демонической женственности в "Поэмах и балладах".
Настоящий инфернальный феминизм зарождается вскоре после того, как в мировой истории определенно заявил о себе сам сатанизм (в широком смысле). Перси Биши Шелли, сыгравший главную роль в сотворении литературного сатанизма, был феминистом. В "Возмущении Ислама" (1818) он объединил обва течения. Воодушевленная сатанинским началом революционерка, действующая в этой поэме, провозглашает, что раскрепощение женщины - необходимое условие для истинного освобождения всего человечества. Менее открытые шаги в ту же сторону сделал лорд Байрон в драме "Небо и земля" (1821), где мятежные ангелы (изображенные в довольно выигрышном свете - в отличие от мстительного и жестокого Бога) предлагают женщинам бежать от нежеланного брака со смертными мужчинами. Другим главным представителем литературного сатанизма был Шарль Бодлер. В некоторых его стихотворениях из сборника "Цветы зла" (1857) выражалось сочувствие к демоническим лесбиянкам, которое вполне можно истолковать как солидаризацию с инфернальной женственностью - в противовес Богу как мужчине-угнетателю. Примерно то же самое можно было бы сказать и о Алджероне Суинберне и его гимнах демонической женственности в "Поэмах и балладах".
ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ БОГ
Принимая один метод, философ отбрасывает остальные. Натаскивая себя на один тип опыта, философ остается инертным к другим его типам. Так, порою весьма трезвомыслящие умы замыкаются в своем трезвомыслии и отрицают сложный свет, формирующийся в более темных зонах психики. Стало быть, относительно занимающей нас проблемы мы ощущаем, что теория познания реального, не интересующаяся онирическими ценностями, оторвана от некоторых интересов, способствующих познанию.
Всякий грезовидец, желающий жить в яблоке, будет миниатюризирован. Итак, можно высказать следующий постулат воображения: вещи, о которых грезят, никогда не сохраняют своих размеров, ни одно их измерение не бывает стабилизированно. И настоящие грезы об обладании, грезы, дарящие нам предмет, являются лилипутскими. Это грезы, которые дарят нам всевозможные сокровища сокровенности вещей. Здесь поистине открывается диалектическая перспектива, некая обратная перспектива, которую можно выразить парадоксальной формулой: недра малого предмета велики. Как сказал об этом Макс Жакоб: «Миниатюрное — это громадное!»
Парадоксальным образом грезовидец сможет войти и в самого себя. Находясь под воздействием пейотля, ми-ниатюризующего наркотика, один пациент Руйе сказал: «Я нахожусь у себя во рту, рассматриваю свою комнату сквозь щеку». Галлюцинации подобного рода получают от наркотиков разрешение на выражение. Но они нередки и в нормальных сновидениях. Бывают ночи, когда мы возвращаемся в самих себя, когда мы посещаем собственные органы.
Эта онирическая жизнь подробностей сокровенного кажется нам весьма отличной от традиционной интуиции философов, всегда утверждающих, что они живут внутри бытия, которое созерцают изнутри. Эта интенсивная приверженность к жизни изнутри немедленно способствует единству охваченного ею существа. Поглядите на философа, предающегося этой интуиции: глаза у него полузакрыты, как при сосредоточенности. Вряд ли он думает о том, чтобы развлекаться или резвиться в своем новом жилище; да и его признания об объективной жизни такого рода никогда не заходят по-настоящему далеко. Зато насколько разнообразнее онирические силы! Они забираются во все складки ореха, они знают жир его граней и весь мазохизм шипов, упирающихся в скорлупу изнутри! Как и все нежные существа, орех причиняет боль самому себе. Разве не от такой боли мучился Кафка из-за абсолютного вживания в собственные образы: «Я думаю о тех ночах, по прошествии которых, выходя из сна, я просыпался с ощущением, будто я заперт в ореховую скорлупу» (Journal intime // Fontaine, mai 1945, p. 192). Но эта боль глубинно уязвленного (froissé), стиснутого в своей сокровенности существа звучит редкостной нотой.
А восхищение концентрированным бытием может исцелить от всех недугов. В «Прометее и Эпиметее» Шпиттелера под сводом орешника богиня спрашивает: «Скажи мне, какое сокровище прячешь ты у себя под крышей; какой чудесный орех ты произвел на свет?» Разумеется, зло прячется подобно добру: колдуны часто вкладывают черта в орехи, которые они дают детям. Аналогичный образ сокровенности находим у Шекспира. Розенкранц говорит Гамлету (акт II, сцена II): «Значит, тюрьмой ее (Данию — Б. С.) делает ваше честолюбие. Вашим требованиям тесно в ней». Гамлет же отвечает: « О Боже! Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду чувствовать себя повелителем бесконечности... Если бы только не дурные сны!».
Если мы согласимся наделить образы первореальностью, если мы не будем ограничивать образы простыми выражениями, мы внезапно ощутим, что внутренняя часть ореха обладает ценностью первозданного счастья. Мы бы жили счастливо, если бы находили там первогрезы блаженства, тщательно охраняемой сокровенности. Несомненно, счастье способно расширяться, у него есть потребность в экспансии. Но у него есть и потребность в концентрации, в сокровенности. Значит, когда мы его утрачиваем, когда жизнь показывает нам «дурные сны», мы ощущаем тоску по сокровенности утраченного счастья. Первые грезы, связываемые с сокровенным образом предмета, — грезы о счастье. Всякая объективная сокровенность, которую мы наблюдаем в естественных грезах, — зародыш счастья.
Грезовидцу кажется, будто чем меньше существа, тем активнее их функции. Живя в малом пространстве, они живут в ускоренном времени. Когда ониризм замыкают, его динамизируют. Еще чуть-чуть, и можно будет предложить для онирической жизни принцип Гейзенберга. И тогда феи станут необычными видами онирической активности. А когда они перенесут нас на уровень мелких действий, мы окажемся в центре разумной и терпеливой воли. Потому-то лилипутские грезы столь целебны и благотворны. Они представляют собой антитезу нарушающим душевный покой грезам о побеге.
Итак, воображение мелочей стремится повсюду проскользнуть, оно приглашает нас не просто вернуться в нашу раковину, а проскользнуть в любую раковину, чтобы обрести там настоящее убежище, «свернутую» жизнь, жизнь, сосредоточенную на себе, все ценности покоя. Именно таков совет Жан-Поля: «Посети рамки своей жизни, каждую дощечку в своей комнате, и свернись клубком, чтобы поселиться в последней и самой спрятанной из спиралей в твоей улиточной раковине.» Вывеска обитаемых предметов может гласить: «Всё — раковина.» А грезящее существо ответит эхом: «Всё для меня — раковина. Я — мягкая материя, которая желает найти себе защиту в разнообразных твердых формах и стремится внутрь каждого предмета, чтобы возрадоваться от осознания защищенности».
Если перелистать научные книги, сообщавшие, словно о подвигах, о самых первых открытиях, сделанных под микроскопом, можно обнаружить бесчисленные примеры размножения лилипутской красоты. Воистину можно сказать, что когда микроскоп возник, он служил калейдоскопом миниатюрного. Но чтобы оставаться верными нашей литературной документации, приведем лишь одну страницу, где образы реального выходят на уровень моральной жизни: «Взять сложный микроскоп и заметить, что ваша капля бургундского — в сущности, Красное море, что пыль на крыльях мотылька — павлинье оперение, плесень — поле цветов, а песок — куча драгоценностей. Эти развлечения, предлагаемые микроскопом, долговечнее самых дорогостоящих фонтанных механизмов... Впрочем, эти метафоры мне следует объяснить через другие. Намерение, с которым я послал «Жизнь Фиксляйна» в любекскую книжную лавку, в том-то и заключалось... что малые чувственные радости мы должны ценить больше больших»
Инверсия
Итак, темы, характеризующие внутреннюю часть субстанций как противоположность внешней, изобилуют и усиливают друг друга. Такая диалектика придает ученый тон старинной поговорке: снаружи горькое, а внутри сладкое. Скорлупа горька, но орех хорош.
В направлении тех же диалектических впечатлений мы займемся подробным анализом одного образа из Одиберти, образа, живущего противоречием между субстанцией и ее атрибутом. В одном сонете Одиберти говорит о «тайной черноте молока». И что странно, так это то, что эти звучные слова — не просто вербальная радость. Для любящего воображение материи это радость глубинная. По существу, достаточно немного погрезить об этой тестообразной белизне, об этой густой белизне, чтобы ощутить, что материальному воображению под белизной необходимо темное тестообразное вещество. Иначе у молока не было бы этой матовой, действительно густой и уверенной в собственной густоте белизны. У этой питательной жидкости не было бы всевозможных земных ценностей. И как раз желание увидеть под белизной изнанку белизны заставляет воображение «грунтовать» некоторые синие отсветы, пробегающие по поверхности жидкости, и находить путь к «тайной черноте молока»".
Странную образную систему Пьера Гегана можно разместить как бы на острие множества метафор, касающихся тайной черноты белых предметов. Говоря о воде, сплошь замутненной от пены и совершенно белой от глубинных движений, о воде, которая, подобно белым коням РосмерсхольмаB, влечет меланхолика к смерти, Пьер Геган пишет: «У этого свернувшегося молока был вкус чернил» (La Bretagne, p. 67). Как лучше выразить глубинную черноту, сокровенную греховность лицемерно доброй (douce) и белой субстанции! Какая прекрасная фатальность человеческого воображения привела современного писателя к обретению понятия суровых вяжущих свойств, столь часто встречающихся в сочинениях Якоба Бёме? У млечной в лунном свете воды — сокровенная чернота смерти, у бальзамической воды — привкус чернил, терпкость напитка для самоубийства. Так бретонская вода Гегана становится подобной «черному молоку» Горгон, которое в «Корабле» Эле-мира БуржаА названо «железным семенем».
Стоит лишь найти проявитель, как страницы, написанные полутонами, обнаружат необыкновенную глубину. С проявителем тайной черноты молока прочтем, к примеру, страницу, на которой Рильке рассказывает о своем ночном путешествии с девушками на холмы, чтобы пить молоко косуль: «Блондинка несет каменную миску, которую ставит перед нами на стол. Молоко было черным. Каждый изумился этому, но никто не посмел высказаться о своем открытии; каждый подумал: ну что ж! Теперь ночь, и я никогда не доил косуль в такой час, а, значит, их молоко начало темнеть в сумерки, так что в два часа ночи сделалось подобным чернилам... Все мы отведали черного молока этой ночной косули...» (Fragments d'un Journal intime // Lettres. Éd. Stock, p. 14). С какой тонкостью штрихов подготовлен этот материальный образ ночного молока! Впрочем, кажется, будто некая сокровенная ночь, хранящая наши личные тайны, вступает в общение с ночью вещей. Выражение этого соответствия мы найдем на страницах Жоэ Буске, которые будем анализировать в дальнейшем: «Ночь минералов, — говорит Жоэ Буске, — в каждом из нас то же самое, что межзвездная чернота в небесной лазури».
______
Материальное воображение, всегда обладающее демиургическим настроем, стремится творить любую белую материю, отправляясь от материи темной; оно хочет победить всякую историю черноты. Отсюда масса выражений, которые кажутся трезвой мысли необоснованными или фальшивыми. Однако грезы о материальной сокровенности не подчиняются законам означающей мысли. Представляется, что столь интересный тезис Бриса Парена о языке можно как бы продублировать, наделив являющий логос известной толщей, в которой могут обитать мифы и образы. На свой лад образы также нечто показывают. И наилучшее доказательство объективности их диалектики — в том, что мы только что видели, как «неправдоподобный образ» навязывает себя поэтическим убеждениям самых различных писателей. Поэты же просто-напросто обнаружили гегелевский закон «перевернутого мира», который выражается так: то, что по закону первого мира «является белым, становится черным по закону перевернутого мира, так что черное в первом диалектическом движении является "бе-лым-в-себе"»
______
Черный
Черный цвет, — говорит к тому же Мишель ЛейрисВ (Aurora, р. 45), — «далек от того, чтобы быть цветом пустоты и небытия; это, скорее, активный цвет, откуда брызжет глубинная, а следовательно, темная субстанция всех вещей. Если же ворон черен, то это, по Мишелю Лейрису, следствие его «кадаверических трапез», он черен «подобно свернувшейся крови или обугленной древесине». Чернота подпитывает всякий глубкий цвет, она представляет собой сокровенную залежь цвета. Так грезят о ней упрямые сновидцы.
Великие грезовидцы черноты желают даже — подобно Андрею Белому — обнаружить (Le Tentateur // Anthologie Rais) «черное в черноте», этот пронзительный цвет, действующий под притупившейся чернотой, эту черноту субстанции, рождающую ее цвет бездны. Так современный поэт обретает стародавние грезы черноты алхимиков, искавших черное чернее черного: «Nigrum nigrius nigro».
Д. Г. Лоуренс находит глубину некоторых из своих впечатлений в аналогичных объективных инверсиях, переворачивая все ощущения. У солнца «только и блещет, что его пыльная одежда. Значит, настоящие лучи, доходящие до нас, странствуя во тьме, — это движущийся мрак первозданного солнца. Солнце темное, и лучи его тоже темны. А свет — лишь его изнанка; желтые лучи не более чем изнанка того, что посылает к нам солнце...» (L'Homme et la Poupée. Trad., p. 169). Благодаря этому примеру тезис становится грандиозным: «Мы, стало быть, живем с изнанки мира — продолжает Лоуренс. — Настоящий мир огня — темный и трепещущий, чернее крови; мир же света, где мы живем, — его обратная сторона... Слушайте дальше. Так же обстоят дела и с любовью. Та бледная любовь, которая нам знакома, — тоже изнанка, белое надгробие настоящей любви. Настоящая любовь дика и печальна; это трепет двоих во мраке...» Углубление образа способствовало вовлечению в него глубин нашей сути. Такова новая потенция метафор, работающих в том же направлении, что и изначальные грезы.
Всякий грезовидец, желающий жить в яблоке, будет миниатюризирован. Итак, можно высказать следующий постулат воображения: вещи, о которых грезят, никогда не сохраняют своих размеров, ни одно их измерение не бывает стабилизированно. И настоящие грезы об обладании, грезы, дарящие нам предмет, являются лилипутскими. Это грезы, которые дарят нам всевозможные сокровища сокровенности вещей. Здесь поистине открывается диалектическая перспектива, некая обратная перспектива, которую можно выразить парадоксальной формулой: недра малого предмета велики. Как сказал об этом Макс Жакоб: «Миниатюрное — это громадное!»
Парадоксальным образом грезовидец сможет войти и в самого себя. Находясь под воздействием пейотля, ми-ниатюризующего наркотика, один пациент Руйе сказал: «Я нахожусь у себя во рту, рассматриваю свою комнату сквозь щеку». Галлюцинации подобного рода получают от наркотиков разрешение на выражение. Но они нередки и в нормальных сновидениях. Бывают ночи, когда мы возвращаемся в самих себя, когда мы посещаем собственные органы.
Эта онирическая жизнь подробностей сокровенного кажется нам весьма отличной от традиционной интуиции философов, всегда утверждающих, что они живут внутри бытия, которое созерцают изнутри. Эта интенсивная приверженность к жизни изнутри немедленно способствует единству охваченного ею существа. Поглядите на философа, предающегося этой интуиции: глаза у него полузакрыты, как при сосредоточенности. Вряд ли он думает о том, чтобы развлекаться или резвиться в своем новом жилище; да и его признания об объективной жизни такого рода никогда не заходят по-настоящему далеко. Зато насколько разнообразнее онирические силы! Они забираются во все складки ореха, они знают жир его граней и весь мазохизм шипов, упирающихся в скорлупу изнутри! Как и все нежные существа, орех причиняет боль самому себе. Разве не от такой боли мучился Кафка из-за абсолютного вживания в собственные образы: «Я думаю о тех ночах, по прошествии которых, выходя из сна, я просыпался с ощущением, будто я заперт в ореховую скорлупу» (Journal intime // Fontaine, mai 1945, p. 192). Но эта боль глубинно уязвленного (froissé), стиснутого в своей сокровенности существа звучит редкостной нотой.
А восхищение концентрированным бытием может исцелить от всех недугов. В «Прометее и Эпиметее» Шпиттелера под сводом орешника богиня спрашивает: «Скажи мне, какое сокровище прячешь ты у себя под крышей; какой чудесный орех ты произвел на свет?» Разумеется, зло прячется подобно добру: колдуны часто вкладывают черта в орехи, которые они дают детям. Аналогичный образ сокровенности находим у Шекспира. Розенкранц говорит Гамлету (акт II, сцена II): «Значит, тюрьмой ее (Данию — Б. С.) делает ваше честолюбие. Вашим требованиям тесно в ней». Гамлет же отвечает: « О Боже! Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду чувствовать себя повелителем бесконечности... Если бы только не дурные сны!».
Если мы согласимся наделить образы первореальностью, если мы не будем ограничивать образы простыми выражениями, мы внезапно ощутим, что внутренняя часть ореха обладает ценностью первозданного счастья. Мы бы жили счастливо, если бы находили там первогрезы блаженства, тщательно охраняемой сокровенности. Несомненно, счастье способно расширяться, у него есть потребность в экспансии. Но у него есть и потребность в концентрации, в сокровенности. Значит, когда мы его утрачиваем, когда жизнь показывает нам «дурные сны», мы ощущаем тоску по сокровенности утраченного счастья. Первые грезы, связываемые с сокровенным образом предмета, — грезы о счастье. Всякая объективная сокровенность, которую мы наблюдаем в естественных грезах, — зародыш счастья.
Грезовидцу кажется, будто чем меньше существа, тем активнее их функции. Живя в малом пространстве, они живут в ускоренном времени. Когда ониризм замыкают, его динамизируют. Еще чуть-чуть, и можно будет предложить для онирической жизни принцип Гейзенберга. И тогда феи станут необычными видами онирической активности. А когда они перенесут нас на уровень мелких действий, мы окажемся в центре разумной и терпеливой воли. Потому-то лилипутские грезы столь целебны и благотворны. Они представляют собой антитезу нарушающим душевный покой грезам о побеге.
Итак, воображение мелочей стремится повсюду проскользнуть, оно приглашает нас не просто вернуться в нашу раковину, а проскользнуть в любую раковину, чтобы обрести там настоящее убежище, «свернутую» жизнь, жизнь, сосредоточенную на себе, все ценности покоя. Именно таков совет Жан-Поля: «Посети рамки своей жизни, каждую дощечку в своей комнате, и свернись клубком, чтобы поселиться в последней и самой спрятанной из спиралей в твоей улиточной раковине.» Вывеска обитаемых предметов может гласить: «Всё — раковина.» А грезящее существо ответит эхом: «Всё для меня — раковина. Я — мягкая материя, которая желает найти себе защиту в разнообразных твердых формах и стремится внутрь каждого предмета, чтобы возрадоваться от осознания защищенности».
Если перелистать научные книги, сообщавшие, словно о подвигах, о самых первых открытиях, сделанных под микроскопом, можно обнаружить бесчисленные примеры размножения лилипутской красоты. Воистину можно сказать, что когда микроскоп возник, он служил калейдоскопом миниатюрного. Но чтобы оставаться верными нашей литературной документации, приведем лишь одну страницу, где образы реального выходят на уровень моральной жизни: «Взять сложный микроскоп и заметить, что ваша капля бургундского — в сущности, Красное море, что пыль на крыльях мотылька — павлинье оперение, плесень — поле цветов, а песок — куча драгоценностей. Эти развлечения, предлагаемые микроскопом, долговечнее самых дорогостоящих фонтанных механизмов... Впрочем, эти метафоры мне следует объяснить через другие. Намерение, с которым я послал «Жизнь Фиксляйна» в любекскую книжную лавку, в том-то и заключалось... что малые чувственные радости мы должны ценить больше больших»
Инверсия
Итак, темы, характеризующие внутреннюю часть субстанций как противоположность внешней, изобилуют и усиливают друг друга. Такая диалектика придает ученый тон старинной поговорке: снаружи горькое, а внутри сладкое. Скорлупа горька, но орех хорош.
В направлении тех же диалектических впечатлений мы займемся подробным анализом одного образа из Одиберти, образа, живущего противоречием между субстанцией и ее атрибутом. В одном сонете Одиберти говорит о «тайной черноте молока». И что странно, так это то, что эти звучные слова — не просто вербальная радость. Для любящего воображение материи это радость глубинная. По существу, достаточно немного погрезить об этой тестообразной белизне, об этой густой белизне, чтобы ощутить, что материальному воображению под белизной необходимо темное тестообразное вещество. Иначе у молока не было бы этой матовой, действительно густой и уверенной в собственной густоте белизны. У этой питательной жидкости не было бы всевозможных земных ценностей. И как раз желание увидеть под белизной изнанку белизны заставляет воображение «грунтовать» некоторые синие отсветы, пробегающие по поверхности жидкости, и находить путь к «тайной черноте молока»".
Странную образную систему Пьера Гегана можно разместить как бы на острие множества метафор, касающихся тайной черноты белых предметов. Говоря о воде, сплошь замутненной от пены и совершенно белой от глубинных движений, о воде, которая, подобно белым коням РосмерсхольмаB, влечет меланхолика к смерти, Пьер Геган пишет: «У этого свернувшегося молока был вкус чернил» (La Bretagne, p. 67). Как лучше выразить глубинную черноту, сокровенную греховность лицемерно доброй (douce) и белой субстанции! Какая прекрасная фатальность человеческого воображения привела современного писателя к обретению понятия суровых вяжущих свойств, столь часто встречающихся в сочинениях Якоба Бёме? У млечной в лунном свете воды — сокровенная чернота смерти, у бальзамической воды — привкус чернил, терпкость напитка для самоубийства. Так бретонская вода Гегана становится подобной «черному молоку» Горгон, которое в «Корабле» Эле-мира БуржаА названо «железным семенем».
Стоит лишь найти проявитель, как страницы, написанные полутонами, обнаружат необыкновенную глубину. С проявителем тайной черноты молока прочтем, к примеру, страницу, на которой Рильке рассказывает о своем ночном путешествии с девушками на холмы, чтобы пить молоко косуль: «Блондинка несет каменную миску, которую ставит перед нами на стол. Молоко было черным. Каждый изумился этому, но никто не посмел высказаться о своем открытии; каждый подумал: ну что ж! Теперь ночь, и я никогда не доил косуль в такой час, а, значит, их молоко начало темнеть в сумерки, так что в два часа ночи сделалось подобным чернилам... Все мы отведали черного молока этой ночной косули...» (Fragments d'un Journal intime // Lettres. Éd. Stock, p. 14). С какой тонкостью штрихов подготовлен этот материальный образ ночного молока! Впрочем, кажется, будто некая сокровенная ночь, хранящая наши личные тайны, вступает в общение с ночью вещей. Выражение этого соответствия мы найдем на страницах Жоэ Буске, которые будем анализировать в дальнейшем: «Ночь минералов, — говорит Жоэ Буске, — в каждом из нас то же самое, что межзвездная чернота в небесной лазури».
______
Материальное воображение, всегда обладающее демиургическим настроем, стремится творить любую белую материю, отправляясь от материи темной; оно хочет победить всякую историю черноты. Отсюда масса выражений, которые кажутся трезвой мысли необоснованными или фальшивыми. Однако грезы о материальной сокровенности не подчиняются законам означающей мысли. Представляется, что столь интересный тезис Бриса Парена о языке можно как бы продублировать, наделив являющий логос известной толщей, в которой могут обитать мифы и образы. На свой лад образы также нечто показывают. И наилучшее доказательство объективности их диалектики — в том, что мы только что видели, как «неправдоподобный образ» навязывает себя поэтическим убеждениям самых различных писателей. Поэты же просто-напросто обнаружили гегелевский закон «перевернутого мира», который выражается так: то, что по закону первого мира «является белым, становится черным по закону перевернутого мира, так что черное в первом диалектическом движении является "бе-лым-в-себе"»
______
Черный
Черный цвет, — говорит к тому же Мишель ЛейрисВ (Aurora, р. 45), — «далек от того, чтобы быть цветом пустоты и небытия; это, скорее, активный цвет, откуда брызжет глубинная, а следовательно, темная субстанция всех вещей. Если же ворон черен, то это, по Мишелю Лейрису, следствие его «кадаверических трапез», он черен «подобно свернувшейся крови или обугленной древесине». Чернота подпитывает всякий глубкий цвет, она представляет собой сокровенную залежь цвета. Так грезят о ней упрямые сновидцы.
Великие грезовидцы черноты желают даже — подобно Андрею Белому — обнаружить (Le Tentateur // Anthologie Rais) «черное в черноте», этот пронзительный цвет, действующий под притупившейся чернотой, эту черноту субстанции, рождающую ее цвет бездны. Так современный поэт обретает стародавние грезы черноты алхимиков, искавших черное чернее черного: «Nigrum nigrius nigro».
Д. Г. Лоуренс находит глубину некоторых из своих впечатлений в аналогичных объективных инверсиях, переворачивая все ощущения. У солнца «только и блещет, что его пыльная одежда. Значит, настоящие лучи, доходящие до нас, странствуя во тьме, — это движущийся мрак первозданного солнца. Солнце темное, и лучи его тоже темны. А свет — лишь его изнанка; желтые лучи не более чем изнанка того, что посылает к нам солнце...» (L'Homme et la Poupée. Trad., p. 169). Благодаря этому примеру тезис становится грандиозным: «Мы, стало быть, живем с изнанки мира — продолжает Лоуренс. — Настоящий мир огня — темный и трепещущий, чернее крови; мир же света, где мы живем, — его обратная сторона... Слушайте дальше. Так же обстоят дела и с любовью. Та бледная любовь, которая нам знакома, — тоже изнанка, белое надгробие настоящей любви. Настоящая любовь дика и печальна; это трепет двоих во мраке...» Углубление образа способствовало вовлечению в него глубин нашей сути. Такова новая потенция метафор, работающих в том же направлении, что и изначальные грезы.
Третья перспектива сокровенности, которую мы собрались изучать, — та, что открывает нам чудесный интерьер, изваянный и окрашенный с большей щедростью, нежели самые прекрасные цветы. Стоит лишь убрать пустую породу и приоткрыть жеоду, как перед нами распахнется кристаллический мир; если рассечь хорошо отполированный кристалл, мы увидим цветы, плетеные узоры, фигуры. И уже не прекратим грезить. Эта внутренняя скульптура, эти глубинные трехмерные рисунки, эти изображения и портреты подобны спящим красавицам.
Один старый автор, написавший в XVII в. книгу по алхимии, у которой было больше читателей, чем у ученых книг той эпохи, поможет нам поддержать наш тезис об эстетических импульсах ониризма: «И если бы эти дары и науки не были (вначале) в недрах Природы, само по себе искусство никогда бы не сумело выдумать эти формы и фигуры и не смогло бы изобразить ни дерево, ни цветок, если бы Природа вообще не сотворила их. И мы восхищаемся и впадаем в экстаз, когда видим на мраморе и яшме людей, ангелов, зверей, здания, виноградные лозы, луга, усеянные всеми видами цветов».
Эта скульптура, обнаруживаемая в глубинах камня и руды, эта сокровенная природная живопись, эти естественные статуи изображают внешние пейзажи и внешних персонажей «за пределами их привычной материи». Такие сокровенные произведения искусства восхищают грезящего о сокровенности субстанций. По мнению Фабра, гений, образующий (Панкализм — наделение Природы, или макрокосма, принципом красоты. Термин широко использовался Башляром во всех его трудах.) кристаллы, — самый умелый из чеканщиков, самый дотошный из миниатюристов: «Итак, мы видим, что эти естественные картины в мраморе и яшме более изысканны и намного более совершенны, нежели те, что предлагает нам искусство, ибо искусственные цвета никогда не бывают ни столь совершенными, ни столь живыми, ни столь яркими, как те, что применяет Природа в этих естественных картинах».
Для нас, рациональных умов, рисунок является человеческой приметой par excellence: стоит нам посмотреть на профиль бизона, нарисованного на стене пещеры и мы тотчас же узна ем, что здесь прошел человек. Но если грезовидец считает, что природа — художница, что она пишет картины и рисует, то не может ли она высекать статуи в камне с таким же успехом, как и лепить их во плоти? Грезы о сокровенных силах материи доходят у Фабра до следующего (р. 305): «В гротах и земляных пещерах в провинции Лангедок близ Сорежа, в пещере, называемой на вульгарном языке Транк дель Калей, я видел самые совершенные приметы скульптуры и живописи из всех, какие можно пожелать; самые любопытные могут взглянуть на них, они увидят их в пещерах и на скалах, тысячью разновидностей фигур восхищающих взоры смотрящих. Никогда скульптор не входил туда, чтобы высечь или вычеканить образ... И это должно внушить нам веру в то, что Природа одарена спо собностями и чудесными знаниями, пожалованными ей Творцом, чтобы она умела работать по разному, что она и делает с разнообразнейшими материями.» И пусть не говорят, — продолжает Фабр, — что это делают подземные демоны. Прошла пора, когда верили в гномов-кузнецов. Нет! Следует уступить очевидности и приписать эстетическую деятельность самим субстанциям, сокровенным потенциям материи: «Это тонкие небесные, огненные и воздушные субстанции, которые живут в общем мировом духе и обладают способностью и властью располагать им, создавая всевозможные фигуры и формы, каковые может пожелать материя, — (иногда) за пределами того рода и вида, где фигура обыкновенно обретается, например, фигура вола или какого-либо иного животного, которое можно представить себе в мраморе, камне или дереве: эти фигуры зависят от естественных свойств Архитектонических духов, существующих в Природе»
Величайшие из поэтов, слегка растушевывая образы, ведут нас в глубины виде ний. В «Воспоминаниях о Райнере Мария Рильке» княгини Турн-и-ТаксисА содержится пересказ сна Рильке, в котором взаимодействует диалектика сокровенности и поверхностности, диалектика, возникающая на пересечении отвращения и очарованности. Поэт в своем ночном сновидении «держит в руке комок земли черной, влажной и отвратительной, и, по существу, ощущает по отношению к нему глубокое отвращение, омерзение и неприязнь, но он знает, что ему надо работать с этой грязью, и он с большой неохотой обрабатывает ее, словно гончарную глину; он берет нож, и ему предстоит снять тонкий слой с этого комка земли, и, надрезая его, он говорит себе, что внутренняя часть комка будет еще более ужасной, чем внешняя, и, чуть ли не колеблясь, он разглядывает внутреннюю часть, которую только что обнажил, — а это поверхность бабочки с распростертыми крыльями, восхитительная по рисунку и цвету, чудесная поверхность живых драгоценных камней» (Betz, p. 183). Рассказ немного шероховат, но его онирические смыслы на месте. Всякий адепт медленного чтения, плавно переставляя смыслы, обнаружит могущество этого светоносного ископаемого, окутанного «черноземом».
Один старый автор, написавший в XVII в. книгу по алхимии, у которой было больше читателей, чем у ученых книг той эпохи, поможет нам поддержать наш тезис об эстетических импульсах ониризма: «И если бы эти дары и науки не были (вначале) в недрах Природы, само по себе искусство никогда бы не сумело выдумать эти формы и фигуры и не смогло бы изобразить ни дерево, ни цветок, если бы Природа вообще не сотворила их. И мы восхищаемся и впадаем в экстаз, когда видим на мраморе и яшме людей, ангелов, зверей, здания, виноградные лозы, луга, усеянные всеми видами цветов».
Эта скульптура, обнаруживаемая в глубинах камня и руды, эта сокровенная природная живопись, эти естественные статуи изображают внешние пейзажи и внешних персонажей «за пределами их привычной материи». Такие сокровенные произведения искусства восхищают грезящего о сокровенности субстанций. По мнению Фабра, гений, образующий (Панкализм — наделение Природы, или макрокосма, принципом красоты. Термин широко использовался Башляром во всех его трудах.) кристаллы, — самый умелый из чеканщиков, самый дотошный из миниатюристов: «Итак, мы видим, что эти естественные картины в мраморе и яшме более изысканны и намного более совершенны, нежели те, что предлагает нам искусство, ибо искусственные цвета никогда не бывают ни столь совершенными, ни столь живыми, ни столь яркими, как те, что применяет Природа в этих естественных картинах».
Для нас, рациональных умов, рисунок является человеческой приметой par excellence: стоит нам посмотреть на профиль бизона, нарисованного на стене пещеры и мы тотчас же узна ем, что здесь прошел человек. Но если грезовидец считает, что природа — художница, что она пишет картины и рисует, то не может ли она высекать статуи в камне с таким же успехом, как и лепить их во плоти? Грезы о сокровенных силах материи доходят у Фабра до следующего (р. 305): «В гротах и земляных пещерах в провинции Лангедок близ Сорежа, в пещере, называемой на вульгарном языке Транк дель Калей, я видел самые совершенные приметы скульптуры и живописи из всех, какие можно пожелать; самые любопытные могут взглянуть на них, они увидят их в пещерах и на скалах, тысячью разновидностей фигур восхищающих взоры смотрящих. Никогда скульптор не входил туда, чтобы высечь или вычеканить образ... И это должно внушить нам веру в то, что Природа одарена спо собностями и чудесными знаниями, пожалованными ей Творцом, чтобы она умела работать по разному, что она и делает с разнообразнейшими материями.» И пусть не говорят, — продолжает Фабр, — что это делают подземные демоны. Прошла пора, когда верили в гномов-кузнецов. Нет! Следует уступить очевидности и приписать эстетическую деятельность самим субстанциям, сокровенным потенциям материи: «Это тонкие небесные, огненные и воздушные субстанции, которые живут в общем мировом духе и обладают способностью и властью располагать им, создавая всевозможные фигуры и формы, каковые может пожелать материя, — (иногда) за пределами того рода и вида, где фигура обыкновенно обретается, например, фигура вола или какого-либо иного животного, которое можно представить себе в мраморе, камне или дереве: эти фигуры зависят от естественных свойств Архитектонических духов, существующих в Природе»
Величайшие из поэтов, слегка растушевывая образы, ведут нас в глубины виде ний. В «Воспоминаниях о Райнере Мария Рильке» княгини Турн-и-ТаксисА содержится пересказ сна Рильке, в котором взаимодействует диалектика сокровенности и поверхностности, диалектика, возникающая на пересечении отвращения и очарованности. Поэт в своем ночном сновидении «держит в руке комок земли черной, влажной и отвратительной, и, по существу, ощущает по отношению к нему глубокое отвращение, омерзение и неприязнь, но он знает, что ему надо работать с этой грязью, и он с большой неохотой обрабатывает ее, словно гончарную глину; он берет нож, и ему предстоит снять тонкий слой с этого комка земли, и, надрезая его, он говорит себе, что внутренняя часть комка будет еще более ужасной, чем внешняя, и, чуть ли не колеблясь, он разглядывает внутреннюю часть, которую только что обнажил, — а это поверхность бабочки с распростертыми крыльями, восхитительная по рисунку и цвету, чудесная поверхность живых драгоценных камней» (Betz, p. 183). Рассказ немного шероховат, но его онирические смыслы на месте. Всякий адепт медленного чтения, плавно переставляя смыслы, обнаружит могущество этого светоносного ископаемого, окутанного «черноземом».
Наряду с такими грезами о сокровенности, которые размножают и увеличивают разнообразные детали структуры, существует и иной тип грез о материальной сокровенности — последний из четырех упомянутых нами типов — и он осмысляет сокровенность не столько по чудесно рас цвеченным фигурам, сколько по субстанциальной напряженности. И тогда начинаются бесконечные грезы о беспредельном богатстве. Обнаруживаемая сокровенность предстает не столько в виде ларца с бесчисленными сокровищами, сколько как таинственная и непрерывная мощь, спускающаяся в нескончаемом процессе в бесконечно малое субстанции. Чтобы наделить наше исследование материальными темами, мы с определенностью будем исходить из диалектических отношений цвета и окрашенности (teinture). И тотчас же ощутим, что цвет представляет собой поверхностный соблазн, тогда как окрашенность — глубинную истину.
Когда тинктура осмысляется так, что становится подлинным корнем субстанции, до такой степени, что заменяет лишенную формы и жизни материю, мы лучше прослеживаем образы «влитых» качеств и сил пропитывания. Греза о пропитывании причисляется к самым амбициозным грезам воли. Существует лишь одно дополнение к времени — вечность. Грезовидец в своей воле к коварному могуществу отождествляет себя с силой, обладающей нестираемой стойкостью. Примета может стираться. Настоящая тинктура нестираема. Внутреннее покоряется в бесконечности глубины на беспредельное время. Так хочет цепкость материального воображения.
Если бы эти грезы о внутренней тинктуре, т. е. цвет, снабженный своей окрашивающей силой, можно было представить во всем их онирическом могуществе, мы, возможно, лучше бы поняли соперничество между психологическими теориями, каковыми поистине являются учения о цвете у Гете и Шопенгауэра, и научным учением, опирающимся на объективный опыт, каким является теория цвета у Ньютона. И тогда мы меньше удивлялись бы пылу, с каким Гете и Шопенгауэр боролись — столь безуспешно! — с теориями математической физики. У них были сокровенные убеждения, сформированные поверх глубоких материальных образов. В общем, Гете ставит в упрек теории Ньютона учет лишь поверхностного аспекта окрашивания. С точки зрения Гете, цвет — не просто игра света, а действие в глубинах бытия, действие, пробуждающее существенные ощутимые ценности. «Die Farben, — говорит Гете, — sind Thaten des Lichts, Thaten und Leidem. Цвета — это деяния света, деяния и претерпевания. «Как понять их, эти цвета, без сопричастности к их глубинному деянию? — думает такой метафизик, как Шопенгауэр. — А каково действие цвета, если не окрашивание?»
Этот акт окрашивания, взятый во всей своей первозданной силе, немедленно предстает как воля руки, руки, сжимающей ткани до последней нитки. Рука красильщика равнозначна руке месильщика, желающего добраться до дна материи, до абсолюта тонкости. Окрашивание также движется к центру материи. Один автор XVIII столетия пишет: «Ибо окраска подобна существенной точке, из которой, как из центра, расходятся лучи, размножающиеся при своей работе» (La Lettre philosophique. Trad. Duval, 1773, p. 8). Когда у рук нет силы, у них есть терпение. Домработница получает такие впечатления, проводя тщательную чистку. Интересная страница из одного романа Д. Г. Лоуренса показывает нам волю к белизне, волю к пропитке материи чистотой, когда «центр» материи столь близко, что кажется, будто материя взрывается, не в силах сохранить высшую степень белизны. Вот великая греза об избыточной материальной жизни, какую мы часто встречаем в стольких произве дениях великого английского писателя: «Генриетта стирала свое белье сама ради радости отбеливания, и ничего она так не любила, как думать о том, как она увидит его становящимся все белее, когда миссис Спенсер будет выходить из моря в солнечную погоду каждые пять минут и смотреть на траву, каждый раз обнаруживая, что белье действительно сделалось более белым, — до тех пор, пока ее муж не объявит, что оно достигло такой степени белизны, что цвета взорвутся, и, выходя, она найдет на траве и в кустах куски радуги вместо салфеток и рубашек.
Как лучше довести грезы до абсолютных образов, до образов невозможных! Такова греза прачки, обработанная материальным воображением с желанием субстанциальной белизны, когда чистота преподносится как нечто вроде качества атомов. Чтобы зайти столь далеко, иногда достаточно как следует начать — и грезить во время работы, как умел Лоуренс.
_____
Как мы видим, некоторые души сопрягают ценности с самыми диковинными образами, оставляющими равнодушными большинство людей. Это действительно доказывает нам, что любой искренне принимаемый материальный образ немедленно становится ценностью. Настаивая на этом факте, мы хотим закончить эту главу, пробудив решающую диалектику образов, диалектику, которую мы можем обозначить в таких терминах: загрязнить, чтобы очистить. Она станет характерным признаком сокровенной битвы между субстанциями и приведет к подлинному манихейству материи. (Манихейство — восходящее к пророку Мани (III в.) учение о двух демиургах — добром и злом. У Башляра — пропитанность материи противоположно оцениваемыми началами.)
В работе о воздухе (Заключение, часть II) мы время от времени уже сталкивались с грезами об активной чистоплотности, о чистоплотности, обретенной в борьбе против коварной и глубокой неопрятности. Необходимо, чтобы любая ценность — чистоплотность, как и остальные, — была завоевана в борьбе с противоценностью, ибо без этого не происходит осмысления. И тогда, как мы указывали, в ониризме активной чистоплотности развивается любопытная диалектика: сначала загрязняют, чтобы впоследствии лучше очистить. Воля к очищению требует противника своего масштаба. А для хорошо динамизированного материального воображения сильно загрязненная субстанция дает очищающему действию больше поводов проявиться, чем субстанция просто замутненная. Грязь — это «выступ», за который зацепляется очиститель. Домработницы больше любят выводить пятна, чем смывать подтеки.
Можно предположить, что простым душам, душам, которые размышляют, работая физически, вручную — каким был случай с Якобом Бёме — знако м реальный характер материального образа, превращающего «выступ зла» в как бы необходимое условие пропитки благом. Нам представляется, что при чтении философа-сапожника можно уловить поединок образов, предшествующий их превращению в обыкновенные метафоры. Манихейство дегтя и воска ощутимо в постоянно возобновляемой ожесточенной борьбе между противоположными прилагательными, относящимися к вяжущим качествам и к сладости. На многих текстах можно убедиться, что отправной точкой для материальных грез Бёме является материя, одновременно терпкая, черная, сжатая, сжимающая и хмурая. В этой дурной материи порождаются стихии: «Между вяжущими качествами и горечью порождается огонь; терпкость огня есть горечь, или само стрекало, а вяжущее качество — это и "пень", и отец первого и второго, и оно, тем не менее, порождено обоими, ибо дух подобен воле или возвышающейся мысли, которая в собственном восхождении ищет, пропитывает и порождает себя.» (Les Trois Principes. T. I, p. 2). Впрочем, чтобы хранить верность бёмеанской мысли, необходимо систематически не располагать время вяжущего качества перед временем сладости. Клод де Сен МартенА говорит, что эти выражения связаны с чересчур наивным согласием с тварным языком. Вяжущее качество и сладость сопряжены между собой материально: именно благодаря вяжущему качеству сладость сочетается с субстанцией, а через «выступ зла» происходит пропитка благом. Материя чистоты остается верной себе и активной посредством вяжущего сжатия материи вязкой и едкой. Необходимо, чтобы острота такой борьбы непрестанно возобновлялась. Необходимо, чтобы чистота, как и благо, находилась в опасности, чтобы оставаться активной и свежей. Это — частный случай воображения качеств. Мы вернемся к нему в главе о нюансировке качеств. А здесь хотим продемонстрировать, что по поводу внешне самых что ни на есть миролюбивых субстанций воображение может вызывать бесконечные сомнения, сомнения, проницающие самую упрятанную сокровенность субстанций.
_____
Возможно, мы получим представление о должной мере бездонной глубины, которую грезят в сокровенности вещей, если рассмотрим миф о глубинном очищении субстанций. Мы кратко упомянули желание Алхимика промывать внутреннюю часть субстанций, отметив диалектический характер этого желания. Однако такой образ влечет к себе несметные метафоры, не ограничивающиеся дублированием реальности, но наглядно доказывающие, что алхи- 52 мик стремится как бы произвести экзорцизм в реалистических образах. Это хорошо разглядел Герберт Зильберер (Probleme der Mystik und ihrer Symbolik, p. 78). Он указывает на сдвиг всех выражений. Идет ли речь о промывке водой — немедленно добавляют, что вода, эта не природная. О промывке мылом? — Это не обычное мыло. Ртутью? — Это не металлическая ртуть. Трижды значение оказалось сдвинутым, и три раза реальность обладает лишь «вре менным» смыслом. Воображение не обнаруживает в реальности истинного активного субъекта при глаголе «промывать». Оно стремится к неопределенной и бесконечной активности, спускающейся в изощренные глубины субстанции. В действии ощущается мистика чистоплотности, мистика очищения. И тогда метафора, которой не удалось выразиться, начинает представлять психическую реальность желания чистоты. Тут опять же открывается перспектива сокровенности, обладающая бесконечной глубиной.
Здесь мы имеем хороший пример необходимости приумножения метафор, признаваемой большинством алхимиков. Реальность они считали обманом зрения. Сера, «отягощенная» запахом и свечением, не была для них настоящей серой, корнем настоящего огня. Да и сам огонь не был настоящим огнем. Он был всего лишь пламенеющим, шумящим, дымящимся и испепеляющим, отдаленным образом истинного огня, изначального огня, чистого огня, субстанциального огня, огня первоначала. Мы хорошо ощущаем, что греза о субстанциях творится как бы против феноменов субстанции, что греза о сокровенности есть становление тайны. Тайный характер алхимии не соответствует благоразумному социальному поведению. Он тяготеет к природе вещей. Он тяготеет к природе алхимической материи. Это не секрет, который кому-то известен. Но это существенный секрет, который ищут и предощущают. К этому секрету приближаются, он вон там, сосредоточен и заперт во вложенных друг в друга сундуках субстанции, все крышки которых вводят в заблуждение. Итак, греза о сокровенности продолжается со странной верой в завершение, вопреки непрестанно возрождающимся иллюзиям. Алхимик настолько любит субстанцию, что не может поверить, что она лжет — вопреки всей ее лжи. Поиски сокровенности сопряжены с диалектикой, которую не может остановить никакой неудачный опыт.
Когда тинктура осмысляется так, что становится подлинным корнем субстанции, до такой степени, что заменяет лишенную формы и жизни материю, мы лучше прослеживаем образы «влитых» качеств и сил пропитывания. Греза о пропитывании причисляется к самым амбициозным грезам воли. Существует лишь одно дополнение к времени — вечность. Грезовидец в своей воле к коварному могуществу отождествляет себя с силой, обладающей нестираемой стойкостью. Примета может стираться. Настоящая тинктура нестираема. Внутреннее покоряется в бесконечности глубины на беспредельное время. Так хочет цепкость материального воображения.
Если бы эти грезы о внутренней тинктуре, т. е. цвет, снабженный своей окрашивающей силой, можно было представить во всем их онирическом могуществе, мы, возможно, лучше бы поняли соперничество между психологическими теориями, каковыми поистине являются учения о цвете у Гете и Шопенгауэра, и научным учением, опирающимся на объективный опыт, каким является теория цвета у Ньютона. И тогда мы меньше удивлялись бы пылу, с каким Гете и Шопенгауэр боролись — столь безуспешно! — с теориями математической физики. У них были сокровенные убеждения, сформированные поверх глубоких материальных образов. В общем, Гете ставит в упрек теории Ньютона учет лишь поверхностного аспекта окрашивания. С точки зрения Гете, цвет — не просто игра света, а действие в глубинах бытия, действие, пробуждающее существенные ощутимые ценности. «Die Farben, — говорит Гете, — sind Thaten des Lichts, Thaten und Leidem. Цвета — это деяния света, деяния и претерпевания. «Как понять их, эти цвета, без сопричастности к их глубинному деянию? — думает такой метафизик, как Шопенгауэр. — А каково действие цвета, если не окрашивание?»
Этот акт окрашивания, взятый во всей своей первозданной силе, немедленно предстает как воля руки, руки, сжимающей ткани до последней нитки. Рука красильщика равнозначна руке месильщика, желающего добраться до дна материи, до абсолюта тонкости. Окрашивание также движется к центру материи. Один автор XVIII столетия пишет: «Ибо окраска подобна существенной точке, из которой, как из центра, расходятся лучи, размножающиеся при своей работе» (La Lettre philosophique. Trad. Duval, 1773, p. 8). Когда у рук нет силы, у них есть терпение. Домработница получает такие впечатления, проводя тщательную чистку. Интересная страница из одного романа Д. Г. Лоуренса показывает нам волю к белизне, волю к пропитке материи чистотой, когда «центр» материи столь близко, что кажется, будто материя взрывается, не в силах сохранить высшую степень белизны. Вот великая греза об избыточной материальной жизни, какую мы часто встречаем в стольких произве дениях великого английского писателя: «Генриетта стирала свое белье сама ради радости отбеливания, и ничего она так не любила, как думать о том, как она увидит его становящимся все белее, когда миссис Спенсер будет выходить из моря в солнечную погоду каждые пять минут и смотреть на траву, каждый раз обнаруживая, что белье действительно сделалось более белым, — до тех пор, пока ее муж не объявит, что оно достигло такой степени белизны, что цвета взорвутся, и, выходя, она найдет на траве и в кустах куски радуги вместо салфеток и рубашек.
Как лучше довести грезы до абсолютных образов, до образов невозможных! Такова греза прачки, обработанная материальным воображением с желанием субстанциальной белизны, когда чистота преподносится как нечто вроде качества атомов. Чтобы зайти столь далеко, иногда достаточно как следует начать — и грезить во время работы, как умел Лоуренс.
_____
Как мы видим, некоторые души сопрягают ценности с самыми диковинными образами, оставляющими равнодушными большинство людей. Это действительно доказывает нам, что любой искренне принимаемый материальный образ немедленно становится ценностью. Настаивая на этом факте, мы хотим закончить эту главу, пробудив решающую диалектику образов, диалектику, которую мы можем обозначить в таких терминах: загрязнить, чтобы очистить. Она станет характерным признаком сокровенной битвы между субстанциями и приведет к подлинному манихейству материи. (Манихейство — восходящее к пророку Мани (III в.) учение о двух демиургах — добром и злом. У Башляра — пропитанность материи противоположно оцениваемыми началами.)
В работе о воздухе (Заключение, часть II) мы время от времени уже сталкивались с грезами об активной чистоплотности, о чистоплотности, обретенной в борьбе против коварной и глубокой неопрятности. Необходимо, чтобы любая ценность — чистоплотность, как и остальные, — была завоевана в борьбе с противоценностью, ибо без этого не происходит осмысления. И тогда, как мы указывали, в ониризме активной чистоплотности развивается любопытная диалектика: сначала загрязняют, чтобы впоследствии лучше очистить. Воля к очищению требует противника своего масштаба. А для хорошо динамизированного материального воображения сильно загрязненная субстанция дает очищающему действию больше поводов проявиться, чем субстанция просто замутненная. Грязь — это «выступ», за который зацепляется очиститель. Домработницы больше любят выводить пятна, чем смывать подтеки.
Можно предположить, что простым душам, душам, которые размышляют, работая физически, вручную — каким был случай с Якобом Бёме — знако м реальный характер материального образа, превращающего «выступ зла» в как бы необходимое условие пропитки благом. Нам представляется, что при чтении философа-сапожника можно уловить поединок образов, предшествующий их превращению в обыкновенные метафоры. Манихейство дегтя и воска ощутимо в постоянно возобновляемой ожесточенной борьбе между противоположными прилагательными, относящимися к вяжущим качествам и к сладости. На многих текстах можно убедиться, что отправной точкой для материальных грез Бёме является материя, одновременно терпкая, черная, сжатая, сжимающая и хмурая. В этой дурной материи порождаются стихии: «Между вяжущими качествами и горечью порождается огонь; терпкость огня есть горечь, или само стрекало, а вяжущее качество — это и "пень", и отец первого и второго, и оно, тем не менее, порождено обоими, ибо дух подобен воле или возвышающейся мысли, которая в собственном восхождении ищет, пропитывает и порождает себя.» (Les Trois Principes. T. I, p. 2). Впрочем, чтобы хранить верность бёмеанской мысли, необходимо систематически не располагать время вяжущего качества перед временем сладости. Клод де Сен МартенА говорит, что эти выражения связаны с чересчур наивным согласием с тварным языком. Вяжущее качество и сладость сопряжены между собой материально: именно благодаря вяжущему качеству сладость сочетается с субстанцией, а через «выступ зла» происходит пропитка благом. Материя чистоты остается верной себе и активной посредством вяжущего сжатия материи вязкой и едкой. Необходимо, чтобы острота такой борьбы непрестанно возобновлялась. Необходимо, чтобы чистота, как и благо, находилась в опасности, чтобы оставаться активной и свежей. Это — частный случай воображения качеств. Мы вернемся к нему в главе о нюансировке качеств. А здесь хотим продемонстрировать, что по поводу внешне самых что ни на есть миролюбивых субстанций воображение может вызывать бесконечные сомнения, сомнения, проницающие самую упрятанную сокровенность субстанций.
_____
Возможно, мы получим представление о должной мере бездонной глубины, которую грезят в сокровенности вещей, если рассмотрим миф о глубинном очищении субстанций. Мы кратко упомянули желание Алхимика промывать внутреннюю часть субстанций, отметив диалектический характер этого желания. Однако такой образ влечет к себе несметные метафоры, не ограничивающиеся дублированием реальности, но наглядно доказывающие, что алхи- 52 мик стремится как бы произвести экзорцизм в реалистических образах. Это хорошо разглядел Герберт Зильберер (Probleme der Mystik und ihrer Symbolik, p. 78). Он указывает на сдвиг всех выражений. Идет ли речь о промывке водой — немедленно добавляют, что вода, эта не природная. О промывке мылом? — Это не обычное мыло. Ртутью? — Это не металлическая ртуть. Трижды значение оказалось сдвинутым, и три раза реальность обладает лишь «вре менным» смыслом. Воображение не обнаруживает в реальности истинного активного субъекта при глаголе «промывать». Оно стремится к неопределенной и бесконечной активности, спускающейся в изощренные глубины субстанции. В действии ощущается мистика чистоплотности, мистика очищения. И тогда метафора, которой не удалось выразиться, начинает представлять психическую реальность желания чистоты. Тут опять же открывается перспектива сокровенности, обладающая бесконечной глубиной.
Здесь мы имеем хороший пример необходимости приумножения метафор, признаваемой большинством алхимиков. Реальность они считали обманом зрения. Сера, «отягощенная» запахом и свечением, не была для них настоящей серой, корнем настоящего огня. Да и сам огонь не был настоящим огнем. Он был всего лишь пламенеющим, шумящим, дымящимся и испепеляющим, отдаленным образом истинного огня, изначального огня, чистого огня, субстанциального огня, огня первоначала. Мы хорошо ощущаем, что греза о субстанциях творится как бы против феноменов субстанции, что греза о сокровенности есть становление тайны. Тайный характер алхимии не соответствует благоразумному социальному поведению. Он тяготеет к природе вещей. Он тяготеет к природе алхимической материи. Это не секрет, который кому-то известен. Но это существенный секрет, который ищут и предощущают. К этому секрету приближаются, он вон там, сосредоточен и заперт во вложенных друг в друга сундуках субстанции, все крышки которых вводят в заблуждение. Итак, греза о сокровенности продолжается со странной верой в завершение, вопреки непрестанно возрождающимся иллюзиям. Алхимик настолько любит субстанцию, что не может поверить, что она лжет — вопреки всей ее лжи. Поиски сокровенности сопряжены с диалектикой, которую не может остановить никакой неудачный опыт.
Если мы прочтем объемистое исследование К. Г. Юнга, посвященное алхимии, мы сможем найти более совершенную меру для грез о глубине субстанций. В действительности — и это продемонстрировал Юнг — алхимик проецирует на субстанции, подвергаемые длительной обработке, собственное бессознательное, дублирующее ощутимые знания. Если Алхимик говорит о ртути, он «внешне» думает о «живом серебре» А, но в то же время полагает, что находится в присутствии духа, сокрытого в материи или плененного ею (см. Jung K.G. Psychologie und Alchemie, S. 399), однако под этим термином «дух», реализованным в картезианской физике, начинает работать неопределенная греза, мысль, не желающая замыкаться в дефинициях, мысль, умножающая смыслы и слова, чтобы не запираться в точных значениях. Хотя К. Г. Юнг и не советует мыслить бессознательное, как нечто локализованное под сознанием, нам представляется, что можно говорить, что бессознательное Алхимика проецируется в материальные образы как глубина. Значит, в двух словах мы скажем, что Алхимик проецирует свою глубину. Во многих из следующих глав мы обнаружим то же проецирование. А следовательно, будем возвращаться к этой теме. Но мы считаем в любом случае полезным отметить закон, который мы назовем изоморфностью образов глубины. Грезя о глубине, мы грезим о нашей глубине. Грезя о тайных качествах субстанций, мы грезим о нашей тайной сути. Но наиболее значительные тайны нашей сути сокрыты от нас самих, их скрывает тайна наших глубин.
Полное изучение материальных образов сокровенности подразумевало бы подробное рассмотрение разнообразных ценностей скрытого тепла. Если бы мы за него взялись, нам следовало бы заново переписать всю нашу работу об огне, выразительнее подчеркивая черты, позволяющие го ворить о подлинной диалектике тепла и огня. Если взять отчетливо различающиеся образы тепла и огня, то, на первый взгляд, эти образы могут служить для характеристики интровертивного и экстравертивного воображения. Огонь экстериоризируется, взрывается, выставляет себя напоказ. Тепло интериоризируется, концентрируется, скрывается. Грезы о внутреннем всегда бывают теплыми, но никогда — жгучими. Тепло в грезах всегда обладает мягкостью, постоянством, регулярностью. Благодаря теплу все обретает глубину. Тепло — знак глубины, смысл глубины.
___
Итак, поочередно изучая медитации алхимиков, предрассудки, подобные распространенным среди древнеримских живописцев, или же навязчивые идеи и мании пуританского пастора, или шутки Свифта, или многословные и темные образы Бёме, или попросту мимолетные мысли домработницы, мы показали, что материальная сокровенность предметов требует весьма характерных грез, несмотря на некоторые сложные аспекты. Вопреки всевозможным запретам философов, человек грезящий стремится проникнуть в сердцевину предметов, в саму материю вещей. Порою делают поспешный вывод, будто в вещах человек обретает самого себя. Но воображение больше жаждет известий из реальности, откровений материи. Оно любит открытый материализм, непрестанно, при каждом удобном случае, предлагающий себя новым и глубоким образам. На свой лад воображение является объективным. Мы попытались доказать это, посвятив целую главу сокровенности грезы в предметах и не касаясь сокровенности грезовидца.
___
Итак, поочередно изучая медитации алхимиков, предрассудки, подобные распространенным среди древнеримских живописцев, или же навязчивые идеи и мании пуританского пастора, или шутки Свифта, или многословные и темные образы Бёме, или попросту мимолетные мысли домработницы, мы показали, что материальная сокровенность предметов требует весьма характерных грез, несмотря на некоторые сложные аспекты. Вопреки всевозможным запретам философов, человек грезящий стремится проникнуть в сердцевину предметов, в саму материю вещей. Порою делают поспешный вывод, будто в вещах человек обретает самого себя. Но воображение больше жаждет известий из реальности, откровений материи. Оно любит открытый материализм, непрестанно, при каждом удобном случае, предлагающий себя новым и глубоким образам. На свой лад воображение является объективным. Мы попытались доказать это, посвятив целую главу сокровенности грезы в предметах и не касаясь сокровенности грезовидца.
Разумеется, если бы мы поставили задачей исследование наиболее скрытых уровней подсознания, если бы мы искали чисто личные источники сокровенности субъекта, нам потребовалось бы пройти по совершенно иному пути. И как раз этот путь позволяет нам, в частности, охарактеризовать возвращение к матери. Психоанализ исследовал вглубь эту перспективу столь тщательно, что мы обойдемся без ее изучения. Мы ограничимся лишь замечанием, имеющим отношение к нашей конкретной теме: к обусловленности образов. На наш взгляд, это возвращение к матери, предстающее в качестве одной из наиболее могущественных тенденций психической инволюции, сопровождается вытеснением образов. Уточнение образов этого инволютивного возвращения мешает предаться его соблазну. По существу, на этом пути находят образы спящего существа, образы существа с закрытыми или полуоткрытыми глазами, но всегда лишенные воли к видению, — ведь это образы сугубо слепого бессознательного, формирующего все свои ощутимые ценности с мягкой теплотой и комфортом.
Флобер также подчиняется закону воображения, наделяющего малое суетой. В книге «Искушение Святого Антония» (первый вариант) он вкладывает в уста пигмеев следующие слова: «Маленькие простачки, мы кишим на земле, словно паразиты на верблюжьем горбу.» Между прочим, что могут делать пигмеи под пером у писателя, чей рост превосходил метр восемьдесят? В нашей предыдущей работе мы указали, что путешественники, находящиеся на высоких горах, любят сравнивать людей с суетящимися муравьями. Таких образов малого слишком много, и потому они не бессмысленны.
Если рассмотреть под микроскопом, — говорит Гемстергейс, — семенную жидкость животного, которое несколько дней не приближалось к самке, то можно обнаружить «поразительное количество этих частичек, или зверюшек Левенгука*, но все они будут в состоянии покоя и без малейших признаков жизни»2. Зато после вашего анализа под микроскопом стоит лишь подвести самку к самцу, как «вы найдете всех этих зверюшек не только живыми, но с потрясающим проворством плавающими в жидкости, которая и без того густа». Так серьезный фило соф наделяет сперматозоид разнообразными волнениями полового желания. Микроскопическое существо мгновенно регистрирует состояние психологии духа, волнуемого страстями. Эта «вертлявая» сокровенность может показаться пародией на глубинные ценности, но, на наш взгляд, она хорошо характеризует наивность воображения внутренних волнений. Впрочем, переходя от волнения к ссоре, мы сейчас увидим более динамичные образы, где воля к власти и враждебности задействована на полную мощность.
Алхимические обозначения вроде прожорливого волка, прилагаемые к субстанциям (можно было бы привести и массу других), в достаточной степени доказывают анимализацию образов вглубь. У этой анимализации — надо ли говорить? — нет ничего общего с формами или цветом. С внешней стороны ничто не легитимизирует метафоры льва или волка, гадюки или собаки. Все животные проявляются как метафоры психологии буйства, жестокости и агрессивности, например, они соответствуют стремительности атаки3. Этот бестиарий металлов действует в алхимии. Это не инертный символизм. С субъективной стороны он отмечает странную сопричастность алхимика битвам между субстанциями. На всем протяжении развития алхимии складывается впечатление, что бестиарий металлов бросает вызов бестиарию-алхимику. Объективно говоря, существует мера — несомненно, исключительно воображаемая, — для измерения сил враждебности различных субстанций по отношению друг к другу. Слово аффинность, длительное время бывшее — и все еще остающееся для донаучного сознания — объяснительным термином, вытеснило собственный анторессивные силы минералов, прямо-таки зловредность ядов и отрав. Она знала мощные и многословные образы. Такие образы поблекли и ослабели, но в них можно вдохнуть новую жизнь под словами, ставшими абстрактными. По сути дела, именно химический и материальный образ за частую наделяет жизнью анимализированные выражения. Так, «грызущее» горе никогда бы не получило своего имени, если бы неутомимая ржавчина не оставляла следов своих крысиных зубок на железе топоров4. Если мы подумаем о кролике, относящемся к отряду грызунов, то грызущее горе будет, если можно так выразиться, невнятицей (coq-à-1'âne). Опосредованность материальным об разом необходима для того, чтобы находить онирические корни выражения горя, грызущего сердце. Ржавчина представляет собой экстравертивный — и, несомненно, весьма неадекватный! — образ муки или искушения, грызущих душу.
С точки зрения Гиппократа, здоровый человек есть сложное вещество, в котором вода и огонь находятся в равновесии. При малейшем недуге борьба двух враждебных стихий в человеческом теле возобновляется. Глухие ссоры являют себя по малейшему поводу. Тем самым можно перевернуть перспективу и заняться психоанализом здоровья. Средоточие борьбы мы улавливаем в амбивалентности анимусаА и анимыB, в амбивалентности, порождающей в каждом из нас борьбу противоположных начал. Воображение усеивает образами именно противоположные принципы. Всякая раздраженная душа вносит раздор в разгоряченное тело. И тогда она уже готова прочитывать в субстанциях всевозможные образы собственного волнения.
____
Этот психологический реализм речи как бы наделяет тяжеловесностью дурной воздух, которым мы дышим. И тогда воздушные флюиды заряжаются злом, поливалентным злом, объединяющим в себе все пороки земной субстанции, когда миазмы принимают на себя все зловоние болота, a moffettes — всю серу рудников. Небесный воздух таких гадостей объяснить не может. Тут необходима глубинно замутненная субстанция, но, прежде всего, субстанция, которая могла бы субстанциализировать тревогу. Весь XVIII век страшился материй лихорадки, материй зачум ленности, материй, замутненных настолько глубоко, что они смущают сразу и вселенную и человека, Макрокосм и Микрокосм. По мнению аббата Бертолона, эти «мефитические» («моффетические») испарения, выходящие из рудников, вредят как электрическим, так и жизненным феноменам. Тлетворные пары вводятся в средоточия субстанций и вносят в них зародыш смерти, само начало распада. Даже столь тусклое понятие, как износ, понятие в наше время, являющееся для рационального сознания совершенно экстравертивным, может выступать в перспективе интро-вертизации. И тогда мы сможем привести примеры, в которых вообразим воздействие подлинной материи разрушения. Существо, как любят повторять, подтачивается изнутри. Но воображение обозначает это глубинное самоуничтожение через активную субстанцию, через зелье или яд.
Ради примера несчастной субстанции можно вспомнить массу страниц, на которых алхимики воскрешают материальный образ смерти или, точнее, материализованного распада. Если три материальных начала Парацельса — сера, ртуть и соль — обыкновенно (как мы показали в предыду щей работе) являются принципами единения и жизни, то они могут подвергнуться такому внутреннему перерождению, что станут началами смерти, разлагающей даже внутренние части стихий9bis. Этот материализм смерти весьма отличается от нашего отчетливого понятия причин смерти. Он весьма отличается и от персонификации Смерти. Без сомнения, Алхимик, как и все мыслители Средневековья, трепетал от символического представления Смерти. Он видел, как Смерть вместе с живыми танцует данс-макабр. Но эти более или менее завуалированные образы скелетов полностью не покрывают более приглушенных и субстанциалистских грез, когда человек размышляет об активном распаде плоти. И тогда он боится уже не только образов скелета. Он страшится лярв, он страшится пепла и праха. В лаборатории он видел слишком уж много процессов распада — с помощью водыА, с помощью огня, посредством известкового раствораB и потому может вообразить, что и сам обречен стать обезличенной субстанцией. Обрисуем некоторые из этих ученых страхов. Мы ощутим их тем более активными, чем крепче — как в эпоху алхимии — соединим их с реалиями Макрокосма и с человеческими реалиями Микрокосма. Радикальная соль, связывающая в нашей плоти огонь души с радикальной влагой тела, может развязываться. И тогда смерть входит в саму субстанцию человека. Болезнь уже представляет собой частичную смерть, болезнетворную субстанцию. А значит, Смерти — утверждает Пьер-Жан Фабр — тоже свойственно «реальное и материальное пребывание» в нашем страдающем теле
Так обнаруживается Контрприрода, которая борется с Природой, и борьба эта является глубинной; она происходит в лоне наитвердейших субстанций. Чтобы как следует уразуметь природу этой глубинной контрприроды, необходимо вновь увидеть все алхимические грезы о сокровенности. Сначала нужно вспомнить, что минерал обладает некоей минеральной жизнью, затем — что эта минеральная жизнь с эпохи Парацельса изучается по своему воздействию на человеческую жизнь. Человеческое тело превратилось в аппарат для экспериментов, в реторту, в атанор. Именно в человеческом сосуде предстоит свершиться наиболее интересным и ценным экспериментам.
Плоть сама по себе есть материальный ад, субстанция, раздираемая, терзаемая, непрестанно волнуемая распрями. У этой адской плоти есть место в Аду. В Аду, говорит Пьер-Жан Фабр (Abrégé des secrets chymiques, p. 94), сосредоточены «все недуги», и не столько как «казни», сколько как «казнимая материя». Там царят «смешение и хаос невообразимых бедствий». Субстанциальный ад — это как раз смесь противоестественной сферы, чуждой влаги и разъедающей соли. В этой адской субстанции вовлечены в борьбу всевозможные силы минеральной бестиальности. Мы видим, как в такой субстанциализации зла действуют необычные потенции материальной метафоры. Речь идет поистине об абстрактно-конкретных образах, и они уносят в сферу интенсивности то, что мы чаще всего подвергаем воздействию безмерности. Они нацелены в средоточие зла, они концентрируют муки. Фигурально представляемый Ад, Ад со своим антуражем, Ад со своими чудовищами создан для того, чтобы задевать воображение простонародья. Алхимик полагал, что в своих медитациях и творениях он давно выделил субстанцию чудовищности. Но у настоящего алхимика благородная душа. И возиться с квинтэссенцией чудовищного он предоставляет колдуньям. К тому же, колдунья работает лишь с животным и растительным царствами. Ей неведомо наиболее сокровенное зло, то, что вписано в извращенный минерал.
Если рассмотреть под микроскопом, — говорит Гемстергейс, — семенную жидкость животного, которое несколько дней не приближалось к самке, то можно обнаружить «поразительное количество этих частичек, или зверюшек Левенгука*, но все они будут в состоянии покоя и без малейших признаков жизни»2. Зато после вашего анализа под микроскопом стоит лишь подвести самку к самцу, как «вы найдете всех этих зверюшек не только живыми, но с потрясающим проворством плавающими в жидкости, которая и без того густа». Так серьезный фило соф наделяет сперматозоид разнообразными волнениями полового желания. Микроскопическое существо мгновенно регистрирует состояние психологии духа, волнуемого страстями. Эта «вертлявая» сокровенность может показаться пародией на глубинные ценности, но, на наш взгляд, она хорошо характеризует наивность воображения внутренних волнений. Впрочем, переходя от волнения к ссоре, мы сейчас увидим более динамичные образы, где воля к власти и враждебности задействована на полную мощность.
Алхимические обозначения вроде прожорливого волка, прилагаемые к субстанциям (можно было бы привести и массу других), в достаточной степени доказывают анимализацию образов вглубь. У этой анимализации — надо ли говорить? — нет ничего общего с формами или цветом. С внешней стороны ничто не легитимизирует метафоры льва или волка, гадюки или собаки. Все животные проявляются как метафоры психологии буйства, жестокости и агрессивности, например, они соответствуют стремительности атаки3. Этот бестиарий металлов действует в алхимии. Это не инертный символизм. С субъективной стороны он отмечает странную сопричастность алхимика битвам между субстанциями. На всем протяжении развития алхимии складывается впечатление, что бестиарий металлов бросает вызов бестиарию-алхимику. Объективно говоря, существует мера — несомненно, исключительно воображаемая, — для измерения сил враждебности различных субстанций по отношению друг к другу. Слово аффинность, длительное время бывшее — и все еще остающееся для донаучного сознания — объяснительным термином, вытеснило собственный анторессивные силы минералов, прямо-таки зловредность ядов и отрав. Она знала мощные и многословные образы. Такие образы поблекли и ослабели, но в них можно вдохнуть новую жизнь под словами, ставшими абстрактными. По сути дела, именно химический и материальный образ за частую наделяет жизнью анимализированные выражения. Так, «грызущее» горе никогда бы не получило своего имени, если бы неутомимая ржавчина не оставляла следов своих крысиных зубок на железе топоров4. Если мы подумаем о кролике, относящемся к отряду грызунов, то грызущее горе будет, если можно так выразиться, невнятицей (coq-à-1'âne). Опосредованность материальным об разом необходима для того, чтобы находить онирические корни выражения горя, грызущего сердце. Ржавчина представляет собой экстравертивный — и, несомненно, весьма неадекватный! — образ муки или искушения, грызущих душу.
С точки зрения Гиппократа, здоровый человек есть сложное вещество, в котором вода и огонь находятся в равновесии. При малейшем недуге борьба двух враждебных стихий в человеческом теле возобновляется. Глухие ссоры являют себя по малейшему поводу. Тем самым можно перевернуть перспективу и заняться психоанализом здоровья. Средоточие борьбы мы улавливаем в амбивалентности анимусаА и анимыB, в амбивалентности, порождающей в каждом из нас борьбу противоположных начал. Воображение усеивает образами именно противоположные принципы. Всякая раздраженная душа вносит раздор в разгоряченное тело. И тогда она уже готова прочитывать в субстанциях всевозможные образы собственного волнения.
____
Этот психологический реализм речи как бы наделяет тяжеловесностью дурной воздух, которым мы дышим. И тогда воздушные флюиды заряжаются злом, поливалентным злом, объединяющим в себе все пороки земной субстанции, когда миазмы принимают на себя все зловоние болота, a moffettes — всю серу рудников. Небесный воздух таких гадостей объяснить не может. Тут необходима глубинно замутненная субстанция, но, прежде всего, субстанция, которая могла бы субстанциализировать тревогу. Весь XVIII век страшился материй лихорадки, материй зачум ленности, материй, замутненных настолько глубоко, что они смущают сразу и вселенную и человека, Макрокосм и Микрокосм. По мнению аббата Бертолона, эти «мефитические» («моффетические») испарения, выходящие из рудников, вредят как электрическим, так и жизненным феноменам. Тлетворные пары вводятся в средоточия субстанций и вносят в них зародыш смерти, само начало распада. Даже столь тусклое понятие, как износ, понятие в наше время, являющееся для рационального сознания совершенно экстравертивным, может выступать в перспективе интро-вертизации. И тогда мы сможем привести примеры, в которых вообразим воздействие подлинной материи разрушения. Существо, как любят повторять, подтачивается изнутри. Но воображение обозначает это глубинное самоуничтожение через активную субстанцию, через зелье или яд.
Ради примера несчастной субстанции можно вспомнить массу страниц, на которых алхимики воскрешают материальный образ смерти или, точнее, материализованного распада. Если три материальных начала Парацельса — сера, ртуть и соль — обыкновенно (как мы показали в предыду щей работе) являются принципами единения и жизни, то они могут подвергнуться такому внутреннему перерождению, что станут началами смерти, разлагающей даже внутренние части стихий9bis. Этот материализм смерти весьма отличается от нашего отчетливого понятия причин смерти. Он весьма отличается и от персонификации Смерти. Без сомнения, Алхимик, как и все мыслители Средневековья, трепетал от символического представления Смерти. Он видел, как Смерть вместе с живыми танцует данс-макабр. Но эти более или менее завуалированные образы скелетов полностью не покрывают более приглушенных и субстанциалистских грез, когда человек размышляет об активном распаде плоти. И тогда он боится уже не только образов скелета. Он страшится лярв, он страшится пепла и праха. В лаборатории он видел слишком уж много процессов распада — с помощью водыА, с помощью огня, посредством известкового раствораB и потому может вообразить, что и сам обречен стать обезличенной субстанцией. Обрисуем некоторые из этих ученых страхов. Мы ощутим их тем более активными, чем крепче — как в эпоху алхимии — соединим их с реалиями Макрокосма и с человеческими реалиями Микрокосма. Радикальная соль, связывающая в нашей плоти огонь души с радикальной влагой тела, может развязываться. И тогда смерть входит в саму субстанцию человека. Болезнь уже представляет собой частичную смерть, болезнетворную субстанцию. А значит, Смерти — утверждает Пьер-Жан Фабр — тоже свойственно «реальное и материальное пребывание» в нашем страдающем теле
Так обнаруживается Контрприрода, которая борется с Природой, и борьба эта является глубинной; она происходит в лоне наитвердейших субстанций. Чтобы как следует уразуметь природу этой глубинной контрприроды, необходимо вновь увидеть все алхимические грезы о сокровенности. Сначала нужно вспомнить, что минерал обладает некоей минеральной жизнью, затем — что эта минеральная жизнь с эпохи Парацельса изучается по своему воздействию на человеческую жизнь. Человеческое тело превратилось в аппарат для экспериментов, в реторту, в атанор. Именно в человеческом сосуде предстоит свершиться наиболее интересным и ценным экспериментам.
Плоть сама по себе есть материальный ад, субстанция, раздираемая, терзаемая, непрестанно волнуемая распрями. У этой адской плоти есть место в Аду. В Аду, говорит Пьер-Жан Фабр (Abrégé des secrets chymiques, p. 94), сосредоточены «все недуги», и не столько как «казни», сколько как «казнимая материя». Там царят «смешение и хаос невообразимых бедствий». Субстанциальный ад — это как раз смесь противоестественной сферы, чуждой влаги и разъедающей соли. В этой адской субстанции вовлечены в борьбу всевозможные силы минеральной бестиальности. Мы видим, как в такой субстанциализации зла действуют необычные потенции материальной метафоры. Речь идет поистине об абстрактно-конкретных образах, и они уносят в сферу интенсивности то, что мы чаще всего подвергаем воздействию безмерности. Они нацелены в средоточие зла, они концентрируют муки. Фигурально представляемый Ад, Ад со своим антуражем, Ад со своими чудовищами создан для того, чтобы задевать воображение простонародья. Алхимик полагал, что в своих медитациях и творениях он давно выделил субстанцию чудовищности. Но у настоящего алхимика благородная душа. И возиться с квинтэссенцией чудовищного он предоставляет колдуньям. К тому же, колдунья работает лишь с животным и растительным царствами. Ей неведомо наиболее сокровенное зло, то, что вписано в извращенный минерал.
Но мы не увидим конца работы, если пожелаем изучить в подробностях образы раздора в сокровенном, всяческие виды динамизма сил, рождающихся от распрей внутри существа, различные грезы взбунтовавшейся оригинальности, из-за которой существо уже не хочет быть тем, что оно есть. В этих наскоро сделанных заметках нам хотелось бы всего лишь обозначить глубину перспективы, которую можно охарактеризовать как пессимизм материи. Мы хотели бы показать, что греза о враждебности может наделяться настолько глубинным динамизмом, что парадоксальным образом она повлечет за собой расщепление простого, разделение стихии (элемента). В лоне любой субстанции воображение материализованного гнева порождает образ контрсубстанции. И тогда кажется, что субстанция сохраняется, борясь с враждебной субстанцией в самом лоне собственного бытия. Тем самым алхимик, субстанциализирующий все свои грезы, а также реализующий собственные провалы в той же степени, что и упования, формирует подлинные антистихии. Такая диалектика уже не довольствуется аристо-телианскими оппозициями качеств — ей требуется диалектика сил, сопряженных с субстанциями. Иначе говоря, продолжая первогрезы, диалектическое воображение уже не удовлетворяется оппозициями между водой и огнем — оно стремится к более глубоким распрям, к раздорам между субстанцией и ее качествами.
Читая алхимические сочинения, мы часто встречались с материальными образами хо лодного огня, сухой воды, черного солнца. Более или менее эксплицитные, более или менее конкретные, они еще появляются в материальных грезах поэтов. Поначалу они характеризуют волю к противоречию видимости, затем — волю к увековечению этого противоречия с помощью внутрен него и фундаментального разлада. Тот, кто следует по пути таких грез, сначала выделяется оригинальным поведением, означающим готовность бросить всевозможные вызовы разумному восприятию, а впоследствии становится жертвой этой оригинальности. И тогда его оригинальность превращается всего лишь в процесс отрицания.
В воображении, находящем удовлетворение в таких образах радикальной оппозиции, укоренена амбивалентность садизма и мазохизма. Несомненно, эта амбивалентность хорошо знакома психоаналитикам. Однако они изучают разве что ее аффективный аспект, область социальных реакций на нее. Воображение заходит дальше; оно творит философию, оно обусловливает манихейский материализм, в коем субстанция всех вещей превращается в арену ожесточенной борьбы, ферментации враждебности. Воображение приступает к онтологизации борьбы, когда существо характеризует себя как «противо-я» (contre-soi), сливая воедино палача и жертву, палача, у которого нет времени насытиться собственным садизмом, и жертву, которой не позволяют удовлетвориться ее мазохизмом. Покой отрицается раз и навсегда. Сама материя не имеет на него права. Так утверждается внутреннее волнение. Тот, кто следует подобным образам, в результате познает динамическое состояние, как правило, переживаемое не без упоения: это суета как таковая. Это муравейник — и только.
Читая алхимические сочинения, мы часто встречались с материальными образами хо лодного огня, сухой воды, черного солнца. Более или менее эксплицитные, более или менее конкретные, они еще появляются в материальных грезах поэтов. Поначалу они характеризуют волю к противоречию видимости, затем — волю к увековечению этого противоречия с помощью внутрен него и фундаментального разлада. Тот, кто следует по пути таких грез, сначала выделяется оригинальным поведением, означающим готовность бросить всевозможные вызовы разумному восприятию, а впоследствии становится жертвой этой оригинальности. И тогда его оригинальность превращается всего лишь в процесс отрицания.
В воображении, находящем удовлетворение в таких образах радикальной оппозиции, укоренена амбивалентность садизма и мазохизма. Несомненно, эта амбивалентность хорошо знакома психоаналитикам. Однако они изучают разве что ее аффективный аспект, область социальных реакций на нее. Воображение заходит дальше; оно творит философию, оно обусловливает манихейский материализм, в коем субстанция всех вещей превращается в арену ожесточенной борьбы, ферментации враждебности. Воображение приступает к онтологизации борьбы, когда существо характеризует себя как «противо-я» (contre-soi), сливая воедино палача и жертву, палача, у которого нет времени насытиться собственным садизмом, и жертву, которой не позволяют удовлетвориться ее мазохизмом. Покой отрицается раз и навсегда. Сама материя не имеет на него права. Так утверждается внутреннее волнение. Тот, кто следует подобным образам, в результате познает динамическое состояние, как правило, переживаемое не без упоения: это суета как таковая. Это муравейник — и только.
КОМПЛЕКС ИОНЫ
Мы достигли бы следующей эквивалентности жизни и смерти: саркофаг — это живот, а живот — саркофаг. Выйти из живота означает родиться, а выйти из саркофага — возродиться. Значит, Иона, находившийся во чреве китовом три дня, как Христос — в могиле, представляет собой образ воскресения.
Итак, в этих образах могила является как бы куколкой, это саркофаг, пожирающий глину плоти. Мумия, словно гусеница, стиснутая лентами куколки, тоже взорвется «настоящей вспышкой, где будут пламенеть симметричные крылья», — как сказал Франсис Понж31. Чрезвычайно интересно за метить, что тем самым можно ассоциировать клочья образов, сочетающихся с куколкой и с саркофагом. И дело здесь в том, что центр интереса у всех этих образов один и тот же: запертое существо, существо защищенное, существо сокрытое, существо, возвратившееся к глубинам своей тайны. Это существо освободится, это существо возродится. Вот в чем судьба образа, взыскующего такого воскресения.
____
Перед глубоким гротом, на пороге пещеры грезовидец замирает. Сначала он разглядывает черную дыру. Пещера, в свою очередь, отвечая взглядом на взгляд, обездвиживает грезовидца своим черным оком. Вертеп — это глаз циклопа.
Мы, без сомнения, привыкли к этой игре инверсиями, привязывающей реальность образа то к человеку, то к вселенной. И все-таки недостаточно замечали, что та же игра инверсий образует динамику воображения. В этой игре одушевляется наша психика. Эта игра порождает некую тотальную метафору, меняющую местами термины философского противопоставления «субъект— мироздание». Эту перестановку следует переживать на образах самых хрупких, самых мимолетных, наименее описательных из всех встречающихся. Таков образ взгляда грота. Ну как же эта обыкновенная черная дыра может создать образ, ассоциирующийся со взглядом из глубин? Для этого необходимо множество грез о земле; нужна медитация о черном, идущем вглубь, о черном без субстанции, или, по крайней мере, с одной лишь субстанцией глубины.
Итак, для грезовидца грота грот больше, чем дом, это существо, отвечающее нашему существу голосом, взглядом, дыханием. К тому же, это некая вселенная. Сентив задается вопросом, не считались ли гроты в четвертичный периодА «уменьшенным Космосом, когда свод изображал небо, а земля воспринималась как Земля в целом» (р. 47). Он находит весьма правдоподобным, что некоторые пещеры «были вырыты и обустроены по правилам архитектуры, долженствующей отражать образ Космоса» (р. 48). В любом случае мотивов полезности, столь часто объявляемых неоспоримыми, недостаточно для того, чтобы уяснить роль гротов и пещер в доисторическую эпоху. Грот остается магическим местом, и не следует удивляться, что он сохраняется как архетип, дей ствующий в подсознании всех людей.
Еще Сентив приводит примеры первобытных мифов, в которых пещера предстает как своего рода вселенская матка. В некоторых мифах из пещеры выходят луна и солнце, все живые существа. В одном перуанском мифе грот назван «домом производства»
Сентив попытался заново ввести реальные компоненты в символику философов. Для него платоновский миф о пещереС — не просто аллегория. Пещера — это Космос7. Древнегреческий философ рекомендует аскезу разума, но такая аскеза обыкновенно осуществляется в «космической пещере инициаций». Инициации как раз и действуют в этой зоне, промежуточной между грезами и идеями; грот является сценой, где дневной свет борется с подземным мраком. В гроте царствует свет, наполненный сновидениями, а тени, проецируемые на стены, без труда можно сравнить с виде ниями грез. В связи с платоновским мифом о пещере Пьер-Максим Шюль справедливо упоминает более скрытые и отдаленные ценности бессознательного. Классические толкования стремятся представить этот миф как простую аллегорию, а тогда можно удивиться, почему узники пещеры позволяют принять себя всего лишь за китайские тени. Этот миф наделен другой глубиной. Грезовидец привязан к ценностям пещер. Реальность этих ценностей располагается в бессознательном. Стало быть, мы не исследуем такие тексты полностью, если будем читать их не более как аллегории, — если мы немедленно перейдем к их ясным частям. По мнению Пшилуского8, Платон описал зрелище, «вероятно, составлявшее часть религиозных церемоний, подобных отправляемым при посвящении в мистерии» в пещерах. Эти отголоски бессознательного мало важны для философской рефлексии. Их важность возросла бы, если бы философия вновь поверила в собственные интуиции. Впрочем, геометрическая игра света «плавает» между отчетливыми идеями и глубинными образами. Вот литературные грезы, где объединены обе инстанции. Иногда — благодаря открытому положению — в гротах протекает свой солнечный день, и тогда они становятся своеобразным природным гномоном. И странно, что именно настоящий церемониал входа солнца в глубину фота сообщает час жертвоприношения беглой амазонки в одноименной пове сти Д. Г. Лоуренса, в повести, для которой характерна неслыханная религиозная жестокость, в повести с явным воображаемым смыслом — и во всем этом невозможно заподозрить книжное влияние. Пещера дожидается Солнца.
Так грот вбирает в себя грезы, становящиеся все более земными. Обитать в гроте означает приступать к раздумьям о земле, быть сопричастным жизни земли в само м лоне Земли как матери.
Мы достигли бы следующей эквивалентности жизни и смерти: саркофаг — это живот, а живот — саркофаг. Выйти из живота означает родиться, а выйти из саркофага — возродиться. Значит, Иона, находившийся во чреве китовом три дня, как Христос — в могиле, представляет собой образ воскресения.
Итак, в этих образах могила является как бы куколкой, это саркофаг, пожирающий глину плоти. Мумия, словно гусеница, стиснутая лентами куколки, тоже взорвется «настоящей вспышкой, где будут пламенеть симметричные крылья», — как сказал Франсис Понж31. Чрезвычайно интересно за метить, что тем самым можно ассоциировать клочья образов, сочетающихся с куколкой и с саркофагом. И дело здесь в том, что центр интереса у всех этих образов один и тот же: запертое существо, существо защищенное, существо сокрытое, существо, возвратившееся к глубинам своей тайны. Это существо освободится, это существо возродится. Вот в чем судьба образа, взыскующего такого воскресения.
____
Перед глубоким гротом, на пороге пещеры грезовидец замирает. Сначала он разглядывает черную дыру. Пещера, в свою очередь, отвечая взглядом на взгляд, обездвиживает грезовидца своим черным оком. Вертеп — это глаз циклопа.
Мы, без сомнения, привыкли к этой игре инверсиями, привязывающей реальность образа то к человеку, то к вселенной. И все-таки недостаточно замечали, что та же игра инверсий образует динамику воображения. В этой игре одушевляется наша психика. Эта игра порождает некую тотальную метафору, меняющую местами термины философского противопоставления «субъект— мироздание». Эту перестановку следует переживать на образах самых хрупких, самых мимолетных, наименее описательных из всех встречающихся. Таков образ взгляда грота. Ну как же эта обыкновенная черная дыра может создать образ, ассоциирующийся со взглядом из глубин? Для этого необходимо множество грез о земле; нужна медитация о черном, идущем вглубь, о черном без субстанции, или, по крайней мере, с одной лишь субстанцией глубины.
Итак, для грезовидца грота грот больше, чем дом, это существо, отвечающее нашему существу голосом, взглядом, дыханием. К тому же, это некая вселенная. Сентив задается вопросом, не считались ли гроты в четвертичный периодА «уменьшенным Космосом, когда свод изображал небо, а земля воспринималась как Земля в целом» (р. 47). Он находит весьма правдоподобным, что некоторые пещеры «были вырыты и обустроены по правилам архитектуры, долженствующей отражать образ Космоса» (р. 48). В любом случае мотивов полезности, столь часто объявляемых неоспоримыми, недостаточно для того, чтобы уяснить роль гротов и пещер в доисторическую эпоху. Грот остается магическим местом, и не следует удивляться, что он сохраняется как архетип, дей ствующий в подсознании всех людей.
Еще Сентив приводит примеры первобытных мифов, в которых пещера предстает как своего рода вселенская матка. В некоторых мифах из пещеры выходят луна и солнце, все живые существа. В одном перуанском мифе грот назван «домом производства»
Сентив попытался заново ввести реальные компоненты в символику философов. Для него платоновский миф о пещереС — не просто аллегория. Пещера — это Космос7. Древнегреческий философ рекомендует аскезу разума, но такая аскеза обыкновенно осуществляется в «космической пещере инициаций». Инициации как раз и действуют в этой зоне, промежуточной между грезами и идеями; грот является сценой, где дневной свет борется с подземным мраком. В гроте царствует свет, наполненный сновидениями, а тени, проецируемые на стены, без труда можно сравнить с виде ниями грез. В связи с платоновским мифом о пещере Пьер-Максим Шюль справедливо упоминает более скрытые и отдаленные ценности бессознательного. Классические толкования стремятся представить этот миф как простую аллегорию, а тогда можно удивиться, почему узники пещеры позволяют принять себя всего лишь за китайские тени. Этот миф наделен другой глубиной. Грезовидец привязан к ценностям пещер. Реальность этих ценностей располагается в бессознательном. Стало быть, мы не исследуем такие тексты полностью, если будем читать их не более как аллегории, — если мы немедленно перейдем к их ясным частям. По мнению Пшилуского8, Платон описал зрелище, «вероятно, составлявшее часть религиозных церемоний, подобных отправляемым при посвящении в мистерии» в пещерах. Эти отголоски бессознательного мало важны для философской рефлексии. Их важность возросла бы, если бы философия вновь поверила в собственные интуиции. Впрочем, геометрическая игра света «плавает» между отчетливыми идеями и глубинными образами. Вот литературные грезы, где объединены обе инстанции. Иногда — благодаря открытому положению — в гротах протекает свой солнечный день, и тогда они становятся своеобразным природным гномоном. И странно, что именно настоящий церемониал входа солнца в глубину фота сообщает час жертвоприношения беглой амазонки в одноименной пове сти Д. Г. Лоуренса, в повести, для которой характерна неслыханная религиозная жестокость, в повести с явным воображаемым смыслом — и во всем этом невозможно заподозрить книжное влияние. Пещера дожидается Солнца.
Так грот вбирает в себя грезы, становящиеся все более земными. Обитать в гроте означает приступать к раздумьям о земле, быть сопричастным жизни земли в само м лоне Земли как матери.
ЛАБИРИНТ
Уразумеем сначала, что греза о лабиринте, переживаемом в сновидении столь особом, что ради краткости его можно было бы назвать лабиринтным, представляет собой регулярную связь глубинных впечатлений. Оно может служить хорошим примером архетипов, упомянутых К. Г. Юн гом. Это понятие архетипа уточнил Робер Дезуайль. Он говорит, что мы недопоняли бы архетип, если бы восприняли его как простой и единственный образ. Архетип — это, скорее, серия образов, «подводящих итог опыту предшествующих поколений в отношении типичных ситуаций, т. е. в обстоятельствах, не приложимых к одному-единственному индивиду, а способных навязать себя любому человеку...»
По существу, в наших ночных сновидениях мы подсознательно возобновляем жизнь наших странствовавших предков. Говорят, что в человеке «всё — путь»; если мы сошлемся на древнейший из архетипов, надо будет добавить: в человеке всё — утраченный путь. Систематически связывать ощущения потерявшегося существа с всякими бессознательными блужданиями означает обретать архетип лабиринта. Горестно брести по грезам означает быть потерянным, переживать бедствия потерявшегося существа. Так синтез бедствий происходит по простейшему элементу трудного пути.
Мы лучше уясним кое-какие виды динамического синтеза, если рассмотрим отчетливые образы. Так, при бодрствовании идти по длинному ущелью или находиться на пересечении путей означает два типа как бы взаимодополнительного страха. Можно даже избавиться от одного при помощи другого. Так пойдем же по этому узкому пути, по крайней мере, не будем колебаться. Так возвратимся же на пересечение дорог, по крайней мере, нас больше не будет вести дорога. В кошмаре же лабиринта объединены оба типа страха, и грезовидец переживает необычайное замешательство: он испытывает колебание посреди единственного пути. Он становится колеблющейся материей, материей, которая длится, колеблясь. В синтезе, образуемом лабиринтной грезой, похоже, сопрягается страх перед застойным прошлым и беспокойство перед бедственным будущим. Оказавшийся в ней человек захвачен врасплох между заблокированным прошлым и выводящим на простор будущим. Он превращается в пленника пути. Наконец, странный фатализм грезы о лабиринте: порою мы возвращаемся в ту же точку, но никогда — тем же путем. Стало быть, речь здесь идет о жизни, которую мы влачим, а она стонет. Ее образы необходимо раскрывать по их динамическому характеру, или, скорее, следует показать, как при затрудненном движении откладываются «ушибленные» образы.
В заключение этой главы нам хотелось бы поразмыслить над этой мощью взаимозаменяемых метафор и — в более обобщенном виде, чем мы могли это сделать при анализе конкретных образов — установить закон изоморфизма образов глубины. Сначала напомним, как мы характеризовали углубленность, исходя из конкретных образов. С этой целью приведем всего четыре отправные точки: 1. Пещера. 2. Дом. 3. «Внутренности» вещей. 4. Живот. Для каждого из четырех образов, прежде всего, следует рассмотреть отчетливые типы углубления. Земля дает нам логова, берлоги, гроты, а впоследствии — колодцы и шахты, куда мы отправляемся, проявляя смелость; грезы о покое сменяются волей к рытью, к познанию глубин земли. Вся эта подземная жизнь — будь она спокойной или же активной — оставляет в нас кошмары раздавленности, наваждения ущелий. Мы рассмотрели несколько примеров на эту тему в настоящей главе о лабиринте.
Глубина вещей исходит из той же диалектики явленного и скрытого. Но эта диалектика вскоре подвергается воздействию воли к тайному, грез, в которых накапливаются могущественные секреты, сгущенные субстанции, яды и зелья в оправе драгоценных камней в кольцах. «Инфернальные ценности» искушают грезы о глубинных субстанциях. Несомненно, в субстанции есть «хорошие» глубины. Если в ней имеются яды, то в ней еще наличествуют и бальзамы, и снадобья. Однако представляется, что в этой амбивалентности нет равновесия и что здесь опять же первичной субстанцией является зло. Когда в грезе о сокровенности субстанций мы продвинемся достаточно далеко, когда мы «перелистаем» наши знания поверхностного мира, мы обнаружим чувство опасности. Тогда всякая сокровенность становится опасной.
Если столь несходные образы так регулярно сходятся в смежных онирических смыслах, то не потому ли это происходит, что нас влечет подлинное чувство углубления? Мы — глубокие существа. Мы прячемся под поверхностями, под внешностью, под масками, но прячемся мы не только от других, но и от самих себя. И глубина в нас представляет собой, выражаясь в стиле Жана Валя, транс-десцендентность.
Уразумеем сначала, что греза о лабиринте, переживаемом в сновидении столь особом, что ради краткости его можно было бы назвать лабиринтным, представляет собой регулярную связь глубинных впечатлений. Оно может служить хорошим примером архетипов, упомянутых К. Г. Юн гом. Это понятие архетипа уточнил Робер Дезуайль. Он говорит, что мы недопоняли бы архетип, если бы восприняли его как простой и единственный образ. Архетип — это, скорее, серия образов, «подводящих итог опыту предшествующих поколений в отношении типичных ситуаций, т. е. в обстоятельствах, не приложимых к одному-единственному индивиду, а способных навязать себя любому человеку...»
По существу, в наших ночных сновидениях мы подсознательно возобновляем жизнь наших странствовавших предков. Говорят, что в человеке «всё — путь»; если мы сошлемся на древнейший из архетипов, надо будет добавить: в человеке всё — утраченный путь. Систематически связывать ощущения потерявшегося существа с всякими бессознательными блужданиями означает обретать архетип лабиринта. Горестно брести по грезам означает быть потерянным, переживать бедствия потерявшегося существа. Так синтез бедствий происходит по простейшему элементу трудного пути.
Мы лучше уясним кое-какие виды динамического синтеза, если рассмотрим отчетливые образы. Так, при бодрствовании идти по длинному ущелью или находиться на пересечении путей означает два типа как бы взаимодополнительного страха. Можно даже избавиться от одного при помощи другого. Так пойдем же по этому узкому пути, по крайней мере, не будем колебаться. Так возвратимся же на пересечение дорог, по крайней мере, нас больше не будет вести дорога. В кошмаре же лабиринта объединены оба типа страха, и грезовидец переживает необычайное замешательство: он испытывает колебание посреди единственного пути. Он становится колеблющейся материей, материей, которая длится, колеблясь. В синтезе, образуемом лабиринтной грезой, похоже, сопрягается страх перед застойным прошлым и беспокойство перед бедственным будущим. Оказавшийся в ней человек захвачен врасплох между заблокированным прошлым и выводящим на простор будущим. Он превращается в пленника пути. Наконец, странный фатализм грезы о лабиринте: порою мы возвращаемся в ту же точку, но никогда — тем же путем. Стало быть, речь здесь идет о жизни, которую мы влачим, а она стонет. Ее образы необходимо раскрывать по их динамическому характеру, или, скорее, следует показать, как при затрудненном движении откладываются «ушибленные» образы.
В заключение этой главы нам хотелось бы поразмыслить над этой мощью взаимозаменяемых метафор и — в более обобщенном виде, чем мы могли это сделать при анализе конкретных образов — установить закон изоморфизма образов глубины. Сначала напомним, как мы характеризовали углубленность, исходя из конкретных образов. С этой целью приведем всего четыре отправные точки: 1. Пещера. 2. Дом. 3. «Внутренности» вещей. 4. Живот. Для каждого из четырех образов, прежде всего, следует рассмотреть отчетливые типы углубления. Земля дает нам логова, берлоги, гроты, а впоследствии — колодцы и шахты, куда мы отправляемся, проявляя смелость; грезы о покое сменяются волей к рытью, к познанию глубин земли. Вся эта подземная жизнь — будь она спокойной или же активной — оставляет в нас кошмары раздавленности, наваждения ущелий. Мы рассмотрели несколько примеров на эту тему в настоящей главе о лабиринте.
Глубина вещей исходит из той же диалектики явленного и скрытого. Но эта диалектика вскоре подвергается воздействию воли к тайному, грез, в которых накапливаются могущественные секреты, сгущенные субстанции, яды и зелья в оправе драгоценных камней в кольцах. «Инфернальные ценности» искушают грезы о глубинных субстанциях. Несомненно, в субстанции есть «хорошие» глубины. Если в ней имеются яды, то в ней еще наличествуют и бальзамы, и снадобья. Однако представляется, что в этой амбивалентности нет равновесия и что здесь опять же первичной субстанцией является зло. Когда в грезе о сокровенности субстанций мы продвинемся достаточно далеко, когда мы «перелистаем» наши знания поверхностного мира, мы обнаружим чувство опасности. Тогда всякая сокровенность становится опасной.
Если столь несходные образы так регулярно сходятся в смежных онирических смыслах, то не потому ли это происходит, что нас влечет подлинное чувство углубления? Мы — глубокие существа. Мы прячемся под поверхностями, под внешностью, под масками, но прячемся мы не только от других, но и от самих себя. И глубина в нас представляет собой, выражаясь в стиле Жана Валя, транс-десцендентность.
ХМЕЯ
Змея — один из важнейших архетипов человеческой души. Это наиболее земное из животных. Поистине это анимализированный корень, а в сфере образов это звено, промежуточное между растительным и животным царствами. В главе о корне мы приведем примеры, доказывающие такую воображаемую эволюцию, эволюцию, все еще живую в любом воображении. Змея спит под землей, во мраке, в черном мире. Она вылезает из земли через малейшую щель или промежуток между камнями..
Лучше всего сразу же привести образ космической змеи, змеи, которую во многих отношениях можно назвать всей землей. Возможно, змею, земное существо, никто и никогда не изображал лучше, чем Д. Г. Лоуренс: «В са мой сердцевине этой земли посреди огня спит громадная змея. Спускающие ся в рудники ощущают ее тепло и пот, они чувствуют ее шевеление. Это жизненное пламя земли, ибо земля живет. Мировая змея имеет гигантские размеры, утесы — это ее чешуя, а между ее чешуйками растут деревья. Я говорю вам, что земля, которую вы роете заступами, жива, словно уснувшая змея. По этой огромной змее вы ходите, это озеро покоится во впадине ее складок, будто капля дождя, оставшаяся между чешуйками гремучей змеи. Тем не менее, змея жива. Земля живет. Если бы змея умерла, мы все погибли бы. Одна лишь ее жизнь делает влажной почву, из которой растет наша кукуруза. Из ее чешуек мы добываем серебро и золото, а деревья держатся за нее корнями, словно наши волосы — за подкожные корни»
Но все оживает, если в образе змеи, кусающей себя за хвост, мы начинаем искать символ живой вечности, вечности, служащей причиной самой себя, собственным материальным основанием. И тогда надо представлять себе укус, одновременно и активный, и смертельный, в диалектике жизни и смерти. Чем более динамизирована одна из сторон диалектического противоречия, тем с большей отчетливостью предстанет эта диалектика. Ведь яд и есть сама смерть, материализованная смерть. Механический укус — ничто, зато капля смерти — все. Капля смерти, источник жизни! В должные часы, при хорошем сочетании звезд, яд приносит исцеление и молодость. Кусающая себя за хвост змея — это не сложенная нить и не просто кольцо плоти, это материальная диалектика жизни и смерти, смерть, исходящая из жизни, и жизнь, исходящая из смерти, и не как противоположности платоновской логики, а как бесконечное инвертирование материи смерти и материи жизни.
В таком случае понятно, почему Ван-Гельмонтову Альке-сту дали имя «великий Круговращаемый» (grand Circulé)
Когда мы поймем, что свернувшаяся змея — не столько кругообразная форма, сколько круговращение жизни
Змея — один из важнейших архетипов человеческой души. Это наиболее земное из животных. Поистине это анимализированный корень, а в сфере образов это звено, промежуточное между растительным и животным царствами. В главе о корне мы приведем примеры, доказывающие такую воображаемую эволюцию, эволюцию, все еще живую в любом воображении. Змея спит под землей, во мраке, в черном мире. Она вылезает из земли через малейшую щель или промежуток между камнями..
Лучше всего сразу же привести образ космической змеи, змеи, которую во многих отношениях можно назвать всей землей. Возможно, змею, земное существо, никто и никогда не изображал лучше, чем Д. Г. Лоуренс: «В са мой сердцевине этой земли посреди огня спит громадная змея. Спускающие ся в рудники ощущают ее тепло и пот, они чувствуют ее шевеление. Это жизненное пламя земли, ибо земля живет. Мировая змея имеет гигантские размеры, утесы — это ее чешуя, а между ее чешуйками растут деревья. Я говорю вам, что земля, которую вы роете заступами, жива, словно уснувшая змея. По этой огромной змее вы ходите, это озеро покоится во впадине ее складок, будто капля дождя, оставшаяся между чешуйками гремучей змеи. Тем не менее, змея жива. Земля живет. Если бы змея умерла, мы все погибли бы. Одна лишь ее жизнь делает влажной почву, из которой растет наша кукуруза. Из ее чешуек мы добываем серебро и золото, а деревья держатся за нее корнями, словно наши волосы — за подкожные корни»
Но все оживает, если в образе змеи, кусающей себя за хвост, мы начинаем искать символ живой вечности, вечности, служащей причиной самой себя, собственным материальным основанием. И тогда надо представлять себе укус, одновременно и активный, и смертельный, в диалектике жизни и смерти. Чем более динамизирована одна из сторон диалектического противоречия, тем с большей отчетливостью предстанет эта диалектика. Ведь яд и есть сама смерть, материализованная смерть. Механический укус — ничто, зато капля смерти — все. Капля смерти, источник жизни! В должные часы, при хорошем сочетании звезд, яд приносит исцеление и молодость. Кусающая себя за хвост змея — это не сложенная нить и не просто кольцо плоти, это материальная диалектика жизни и смерти, смерть, исходящая из жизни, и жизнь, исходящая из смерти, и не как противоположности платоновской логики, а как бесконечное инвертирование материи смерти и материи жизни.
В таком случае понятно, почему Ван-Гельмонтову Альке-сту дали имя «великий Круговращаемый» (grand Circulé)
Когда мы поймем, что свернувшаяся змея — не столько кругообразная форма, сколько круговращение жизни
КОРЕНЬ
Корень — это таинственное дерево, дерево подземное, дерево опрокинутое. Для него самая темная земля — словно пруд, хотя и без пруда — это тоже зеркало, странное тусклое зеркало, удваивающее всякую воздушную реальность при помощи подземного образа. Благодаря таким грезам философ, пишущий эти страницы, в достаточной степени отмечает, какой избыток смутных метафор втягивает его, когда он грезит о корнях. Извинить его может лишь то, что, читая книги, он достаточно часто сталкивался с образом дерева, растущего в обратную сторону, дерева, чьи корни, словно легкая листва, трепетали на подземном ветру, тогда как ветви были крепко укоренены в голубом небе.
Можно без труда приумножать количество примеров, устанавливая, что образ корня сочетается почти со всеми земными архетипами. По существу, когда образ корня обретает хотя бы малую толику искренности, он открывает в наших грезах все, что делает нас землянамиA. У всех нас до одного, без единого исключения, предки были пахарями. А ведь истинные грезы пахоты — это не досужее созерцание борозды и перепаханной земли, как в некоторых картинах из прозы Эмиля Золя. Все это созерцает литератор. Пахота же — не созерцание, она агрессивна, и психоаналитикам не составит труда выделить в ней компонент сексуальной наступательности. Но с той же точки зрения объективного психоанализа представляется, что пахота ополчается скорее против пней, чем против земли. Корчевание — вот наиболее пылкая пахота, пахота, у которой есть «записной» враг. В таком случае любой грезовидец, как следует динамизированный строптивым корнем, призна ет, что первая соха сама была корнем, корнем, вырванным из земли, корнем прирученным, одомашненным. Раздвоенный корень своим лемехом и твердой деревянной частью начинает ответную борьбу с корнями дикими; человек, этот великий стратег, заставляет предметы бороться против предметов: соха-корень выкорчевывает корни6
___
Греза о глубинах, следующая за образом корня, продлевает свое таинственное обиталище до самого ада. Величественный дуб достигает «царства мертвых». К тому же, весьма часто в воображении корня возникает активный синтез жизни и смерти. Нельзя сказать, что корень пассивно погребен; он — собственный могильщик, он продолжает без конца погребать себя. Лес — самое романтическое из кладбищ. На пороге смерти, во время приступа грудной жабы, Спаркенброк думает о дереве: «Он говорил о корнях, он беспокоился о расстоянии, на которое они простираются под землей, о силе и мощи, благодаря которым они разбивают препятствия.»15 Этот интерес к космическому образу, прокрадывающемуся в совершенно удрученную душу, в самое сердце драмы страсти и жизни, должен задержать внимание философа. Несомненно, нам возразят, что это всего навсего литературный образ, образ смерти, выходящий из-под пера «вполне» живого писателя. Однако такое возражение равносильно недооценке психического первенства потребности в самовыражении. Смерть есть, прежде всего, образ, и она остается образом. Она может осознаваться нами, лишь самовыражаясь, а самовыражаться она может лишь посредством метафор. Всякая смерть, предвидящая сама себя, о себе рассказывает.
Корень — это таинственное дерево, дерево подземное, дерево опрокинутое. Для него самая темная земля — словно пруд, хотя и без пруда — это тоже зеркало, странное тусклое зеркало, удваивающее всякую воздушную реальность при помощи подземного образа. Благодаря таким грезам философ, пишущий эти страницы, в достаточной степени отмечает, какой избыток смутных метафор втягивает его, когда он грезит о корнях. Извинить его может лишь то, что, читая книги, он достаточно часто сталкивался с образом дерева, растущего в обратную сторону, дерева, чьи корни, словно легкая листва, трепетали на подземном ветру, тогда как ветви были крепко укоренены в голубом небе.
Можно без труда приумножать количество примеров, устанавливая, что образ корня сочетается почти со всеми земными архетипами. По существу, когда образ корня обретает хотя бы малую толику искренности, он открывает в наших грезах все, что делает нас землянамиA. У всех нас до одного, без единого исключения, предки были пахарями. А ведь истинные грезы пахоты — это не досужее созерцание борозды и перепаханной земли, как в некоторых картинах из прозы Эмиля Золя. Все это созерцает литератор. Пахота же — не созерцание, она агрессивна, и психоаналитикам не составит труда выделить в ней компонент сексуальной наступательности. Но с той же точки зрения объективного психоанализа представляется, что пахота ополчается скорее против пней, чем против земли. Корчевание — вот наиболее пылкая пахота, пахота, у которой есть «записной» враг. В таком случае любой грезовидец, как следует динамизированный строптивым корнем, призна ет, что первая соха сама была корнем, корнем, вырванным из земли, корнем прирученным, одомашненным. Раздвоенный корень своим лемехом и твердой деревянной частью начинает ответную борьбу с корнями дикими; человек, этот великий стратег, заставляет предметы бороться против предметов: соха-корень выкорчевывает корни6
___
Греза о глубинах, следующая за образом корня, продлевает свое таинственное обиталище до самого ада. Величественный дуб достигает «царства мертвых». К тому же, весьма часто в воображении корня возникает активный синтез жизни и смерти. Нельзя сказать, что корень пассивно погребен; он — собственный могильщик, он продолжает без конца погребать себя. Лес — самое романтическое из кладбищ. На пороге смерти, во время приступа грудной жабы, Спаркенброк думает о дереве: «Он говорил о корнях, он беспокоился о расстоянии, на которое они простираются под землей, о силе и мощи, благодаря которым они разбивают препятствия.»15 Этот интерес к космическому образу, прокрадывающемуся в совершенно удрученную душу, в самое сердце драмы страсти и жизни, должен задержать внимание философа. Несомненно, нам возразят, что это всего навсего литературный образ, образ смерти, выходящий из-под пера «вполне» живого писателя. Однако такое возражение равносильно недооценке психического первенства потребности в самовыражении. Смерть есть, прежде всего, образ, и она остается образом. Она может осознаваться нами, лишь самовыражаясь, а самовыражаться она может лишь посредством метафор. Всякая смерть, предвидящая сама себя, о себе рассказывает.
КОРЕНЬ
Корень — это таинственное дерево, дерево подземное, дерево опрокинутое. Для него самая темная земля — словно пруд, хотя и без пруда — это тоже зеркало, странное тусклое зеркало, удваивающее всякую воздушную реальность при помощи подземного образа. Благодаря таким грезам философ, пишущий эти страницы, в достаточной степени отмечает, какой избыток смутных метафор втягивает его, когда он грезит о корнях. Извинить его может лишь то, что, читая книги, он достаточно часто сталкивался с образом дерева, растущего в обратную сторону, дерева, чьи корни, словно легкая листва, трепетали на подземном ветру, тогда как ветви были крепко укоренены в голубом небе.
Можно без труда приумножать количество примеров, устанавливая, что образ корня сочетается почти со всеми земными архетипами. По существу, когда образ корня обретает хотя бы малую толику искренности, он открывает в наших грезах все, что делает нас землянамиA. У всех нас до одного, без единого исключения, предки были пахарями. А ведь истинные грезы пахоты — это не досужее созерцание борозды и перепаханной земли, как в некоторых картинах из прозы Эмиля Золя. Все это созерцает литератор. Пахота же — не созерцание, она агрессивна, и психоаналитикам не составит труда выделить в ней компонент сексуальной наступательности. Но с той же точки зрения объективного психоанализа представляется, что пахота ополчается скорее против пней, чем против земли. Корчевание — вот наиболее пылкая пахота, пахота, у которой есть «записной» враг. В таком случае любой грезовидец, как следует динамизированный строптивым корнем, призна ет, что первая соха сама была корнем, корнем, вырванным из земли, корнем прирученным, одомашненным. Раздвоенный корень своим лемехом и твердой деревянной частью начинает ответную борьбу с корнями дикими; человек, этот великий стратег, заставляет предметы бороться против предметов: соха-корень выкорчевывает корни6
___
Греза о глубинах, следующая за образом корня, продлевает свое таинственное обиталище до самого ада. Величественный дуб достигает «царства мертвых». К тому же, весьма часто в воображении корня возникает активный синтез жизни и смерти. Нельзя сказать, что корень пассивно погребен; он — собственный могильщик, он продолжает без конца погребать себя. Лес — самое романтическое из кладбищ. На пороге смерти, во время приступа грудной жабы, Спаркенброк думает о дереве: «Он говорил о корнях, он беспокоился о расстоянии, на которое они простираются под землей, о силе и мощи, благодаря которым они разбивают препятствия.»15 Этот интерес к космическому образу, прокрадывающемуся в совершенно удрученную душу, в самое сердце драмы страсти и жизни, должен задержать внимание философа. Несомненно, нам возразят, что это всего навсего литературный образ, образ смерти, выходящий из-под пера «вполне» живого писателя. Однако такое возражение равносильно недооценке психического первенства потребности в самовыражении. Смерть есть, прежде всего, образ, и она остается образом. Она может осознаваться нами, лишь самовыражаясь, а самовыражаться она может лишь посредством метафор. Всякая смерть, предвидящая сама себя, о себе рассказывает.
Корень — это таинственное дерево, дерево подземное, дерево опрокинутое. Для него самая темная земля — словно пруд, хотя и без пруда — это тоже зеркало, странное тусклое зеркало, удваивающее всякую воздушную реальность при помощи подземного образа. Благодаря таким грезам философ, пишущий эти страницы, в достаточной степени отмечает, какой избыток смутных метафор втягивает его, когда он грезит о корнях. Извинить его может лишь то, что, читая книги, он достаточно часто сталкивался с образом дерева, растущего в обратную сторону, дерева, чьи корни, словно легкая листва, трепетали на подземном ветру, тогда как ветви были крепко укоренены в голубом небе.
Можно без труда приумножать количество примеров, устанавливая, что образ корня сочетается почти со всеми земными архетипами. По существу, когда образ корня обретает хотя бы малую толику искренности, он открывает в наших грезах все, что делает нас землянамиA. У всех нас до одного, без единого исключения, предки были пахарями. А ведь истинные грезы пахоты — это не досужее созерцание борозды и перепаханной земли, как в некоторых картинах из прозы Эмиля Золя. Все это созерцает литератор. Пахота же — не созерцание, она агрессивна, и психоаналитикам не составит труда выделить в ней компонент сексуальной наступательности. Но с той же точки зрения объективного психоанализа представляется, что пахота ополчается скорее против пней, чем против земли. Корчевание — вот наиболее пылкая пахота, пахота, у которой есть «записной» враг. В таком случае любой грезовидец, как следует динамизированный строптивым корнем, призна ет, что первая соха сама была корнем, корнем, вырванным из земли, корнем прирученным, одомашненным. Раздвоенный корень своим лемехом и твердой деревянной частью начинает ответную борьбу с корнями дикими; человек, этот великий стратег, заставляет предметы бороться против предметов: соха-корень выкорчевывает корни6
___
Греза о глубинах, следующая за образом корня, продлевает свое таинственное обиталище до самого ада. Величественный дуб достигает «царства мертвых». К тому же, весьма часто в воображении корня возникает активный синтез жизни и смерти. Нельзя сказать, что корень пассивно погребен; он — собственный могильщик, он продолжает без конца погребать себя. Лес — самое романтическое из кладбищ. На пороге смерти, во время приступа грудной жабы, Спаркенброк думает о дереве: «Он говорил о корнях, он беспокоился о расстоянии, на которое они простираются под землей, о силе и мощи, благодаря которым они разбивают препятствия.»15 Этот интерес к космическому образу, прокрадывающемуся в совершенно удрученную душу, в самое сердце драмы страсти и жизни, должен задержать внимание философа. Несомненно, нам возразят, что это всего навсего литературный образ, образ смерти, выходящий из-под пера «вполне» живого писателя. Однако такое возражение равносильно недооценке психического первенства потребности в самовыражении. Смерть есть, прежде всего, образ, и она остается образом. Она может осознаваться нами, лишь самовыражаясь, а самовыражаться она может лишь посредством метафор. Всякая смерть, предвидящая сама себя, о себе рассказывает.